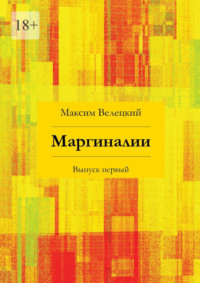Полная версия
Маргиналии. Выпуск второй

Маргиналии
Выпуск второй
Максим Велецкий
Редактор Сергей Кузнецов
Фото Валентин Карант
© Максим Велецкий, 2022
ISBN 978-5-0056-9796-7 (т. 2)
ISBN 978-5-0055-7952-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
В аналогичном вступлении к первому выпуску я охарактеризировал его в качестве «свободного, пестрого и бодрого» – и, по-видимому, не ошибся: ощущения читателей, удостоивших меня отзывами, были схожими. Новый том вышел иным – куда более неспешным и вдумчивым. Он уступает предыдущему в веселости и тематическом разнообразии, но превосходит и в объеме, и в глубине.
Разумеется, формат остался прежним – чужая цитата и мой вольный комментарий. Преемственность с первым томом проявилась и в сквозной нумерации текстов, и в их общем количестве. Правила составления также не изменились. Во-первых, к одному автору я писал не более двух маргиналий – в прошлый раз «двушечку» получили Платон, Аристотель и Константин Крылов, в этот – Эпикур, Ницше и Дмитрий Галковский. Во-вторых, я вновь решил воздержаться от нецензурной лексики – мат в книге присутствует, но оба раза – в цитатах. В-третьих, список литературы и примечания вынесены в отдельную главку «Авторы и источники», ссылки на которую обозначены как [АИ]. Впрочем, каждый раз заглядывать в нее вовсе не обязательно – все, что я имел важного сказать, присутствует в основном тексте. В-четвертых, очередность маргиналий как и прежде определяется временем рождения их героев.
Хотя читать можно в любом порядке, я хочу подчеркнуть, что это не просто набор публикаций, спаянных общей формой: при всем разбросе авторов и сюжетов, я все же создавал этот выпуск как книгу, как цельное произведение.
Также осмелюсь дать небольшую рекомендацию по чтению. Если вы не знаете автора цитаты – например, в первый раз видите имена Саллюстия, Этингера, Гартмана или Пинкера – прошу не пропускать соответствующие маргиналии. Потому что между цитатой и комментарием часто нет прямой связи. Иными словами, не проходите мимо того, что поначалу кажется неизвестным или даже неприятным (допустим, мимо автора, которого не любите) – вполне возможно, что в тексте о нем не будет ни слова, но зато будут слова, которые придутся вам по душе.
Единственная ложка дегтя в этом издании – то, что мне пришлось изъять из сборника одну из самых важных и любимых маргиналий. В оглавлении она, впрочем осталась, но, увы, прочесть ее можно где угодно, но только не здесь.
Не могу вновь не выразить безмерную благодарность, во-первых, своим близким, во-вторых, своим платным подписчикам и, в-третьих, читателям, оформившим предзаказ (особенно Александру Т., чей донат на издание книги был особенно щедрым). Немногим философам судьба посылает возможность чувствовать себя востребованным и иметь финансовую независимость от официальных институций. Благодаря патронату от читателей я – в числе счастливчиков.
56. К Гесиоду
«Прежде всего во вселенной Хаос зародился, а следом
Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный,
Сумрачный Тартар, в земных залегающий недрах глубоких,
И, между вечными всеми богами прекраснейший, – Эрос.
Сладкоистомный – у всех он богов и людей земнородных
Душу в груди покоряет и всех рассужденья лишает.
Черная Ночь и угрюмый Эреб родились из Хаоса.
Ночь же Эфир родила и сияющий День, иль Гемеру:
Их зачала она в чреве, с Эребом в любви сочетавшись.
Гея же прежде всего родила себе равное ширью
Звездное Небо, Урана, чтоб точно покрыл ее всюду
И чтобы прочным жилищем служил для богов всеблаженных».
[АИ 56]
«Теогония» Гесиода представляет собой подробное изложение генеалогии античных богов и процесса создания мира. В этом состоит принципиальное отличие Гесиода от Гомера, у которого теогония и космогония фактически отсутствуют. Гомер лишь несколько раз упоминает пару прародителей – Океан и Тефиду. Об Океане сказано только то, что он омывает весь мир, в том числе и Аид, и Элизиум (приблизительные аналоги ада и рая), а о Тефиде поэт не сообщает ничего, кроме имени. У Гесиода же мы видим лютую хтонь, аналоги которой трудно найти во всей истории религий.
Вообще, различия между двумя главными эпическими греческими поэтами настолько бросаются в глаза, что прекрасно иллюстрируют важную черту мифологического и религиозного сознания как таковых. При всем различии между мифологией и религией, их объединяет определенная «партийность». Несмотря на внешнюю схожесть, греческая мифология-религия в изображении Гомера принципиально отличается от гесиодовской – и уж, тем более, от более поздних интерпретаций. Проще говоря, боги и базовые сюжеты одинаковы, но картины мира принципиально разные. И это общая ситуация не только для языческих, но и для монотеистических религий. Для нас, изучающих религии уже постфактум, – когда они либо сошли со сцены (как языческие), либо утратили свой авторитет (как христианство), это создает существенные трудности. Мы все, хотим этого или нет, воспитаны в научной парадигме, которая претендует на обладание объективной истиной – и этот объективизм пытаемся найти и в мифологическом и религиозном мировоззрениях. Это проявляется даже в лексике: и у серьезных авторов можно найти высказывания вроде «древние греки верили…» – так, как будто в это верили все греки в независимости от века, местности и сословия.
В формировании упрощенной модели восприятия религии играет роль и влияние монотеизма – мы по умолчанию убеждены в том, что любая религия имеет символ веры, священные книги, стройную теологию и каноническое изложение истории (как мира, так и самой религии). Однако даже в христианстве друг с другом (плюс-минус мирно) сосуществуют сразу несколько интерпретаций базовых догм. Например, Иисус в интерпретации Павла является искупителем человеческих грехов, заповедовавшим любовь вместо слепого исполнения старого закона. А у Иоанна Иисус – грозный судия, опрокидывающий чаши гнева на все живое. В православном христианстве параллельно существуют и отношение к миру как антиподу бога, и восприятие обоих (бога и мира) в качестве подобных друг другу – последнее мы можем найти у Псевдо-Дионисия Ареопагита, христианского неоплатоника Раннего Средневековья. В западном христианстве, благодаря активной деятельности богословов, дистанция между разными типами миропонимания еще более существенна: в этом легко убедиться, сравнив, например, христианство Франциска Ассизского, Фомы Аквинского, Терезы Авильской и Игнатия Лойолы. Также весьма различны христианские решения проблемы зла: у Августина как у последовательного платоника зло не субстанционально и является просто недостатком блага – что не очень-то сочетается с распространенным образом дьявола как силы, обладающей и волей, и ресурсами для ее воплощения.
Я намеренно упрощаю все эти богословские позиции, потому что их разбор не входит в цели данной маргиналии. На этих примерах я всего лишь хочу показать, что религия и религиозность не столь нетерпимы к противоречиям, как наука. В этом слабость религии, но в этом же и ее сила. Религиозному человеку бесполезно задавать вопросы вроде «если Иисус искупил наши грехи, то за что же он будет нас судить?» – равно как и человека научного склада ума нет смысла спрашивать «если мир появился случайно и управляется естественными причинами, то как тогда Христос воскрес?».
В языческих религиях дистанция между разными типами богословия еще более существенна. Возьмем четыре античных позиции: гомеровскую, гесиодовскую, стоическую и неоплатоническую – формально во всех них миром правит Зевс, но на этом сходства, по сути, заканчиваются. Однако если бы греческое язычество сохранилось, то его приверженцы были бы до сих пор уверены в том, что между всеми воззрениями поэтов и философов имеется строгая преемственность, а противоречия носят чисто исторический характер. Все они считались бы ортодоксальными зевсианцами – и язычники безо всяких сомнений посещали бы храмы равнобожественных Гомера и Гесиода (как христиане во все века посещают храмы Петра и Павла, которые, вообще-то, были антагонистами).
Любая систематизация религии имеет существенный минус – все разнообразие ее версий упрощается либо полностью устраняется. Также, к слову, произошло и со славянским язычеством. До сих пор распространено мнение, что верховным богом древних славян был Перун – на это указывает то, что будущий креститель Руси Владимир именно его поставил во главе пантеона. Но Перун был главным богом только для него, Владимира, и его приближенных. Древнерусскому крестьянину, сроду не бравшему в руки оружия, Перун был немногим ближе, чем Кецалькоатль (равно и для афинянина Афина была более важным божеством, чем, скажем, Гефест). Из этого следует, что, рассматривая любой религиозный текст, необходимо обращать внимание на то, кем и для кого он создан. Если мы посмотрим на поэмы Гомера, то обнаружим в них всего два упоминания о Дионисе – потому что modus vivendi греческой аристократии не имеет к Дионису никакого отношения. Означает ли это, что он был второстепенным богом для всей греческой религиозности в целом? Нет, просто там, где идет речь об Агамемнонах, Одиссеях, Аяксах и Ахиллесах – там Дионису делать нечего.
Каждое сословие (а иногда и профессиональное сообщество) обладает собственным мировосприятием – но обычно в истории остаются лишь воззрения аристократов, жрецов и городских интеллектуалов, хотя они составляют меньшинство населения. Возникает своеобразная «ошибка выжившего»: мы принимаем часть за целое. Если бы до нас из всей греческой архаики дошли только поэмы Гомера, мы бы не могли представить, что его онтология – такая солнечная и оптимистичная – является только вишенкой на торте. А точнее ложкой меда в бочке дегтя. Дело в том, что параллельно с миром быстроногих героев и златотронных богов, состязающихся как друг с другом, так и между собой – существовало и другое миропонимание (как минимум одно). Оно было куда более архаично (восходило еще к доиндоевропейским земледельческим культам) и куда менее жизнеутвердительно. Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать начальную цитату еще раз.
Гесиод – земледелец. Мир его поэм (и «Теогонии», и «Трудов и дней») почти противоположен гомеровскому: жизнь – это царство несправедливости власть имущих и прогрессирующей порочности масс:
«Землю теперь населяют железные люди. Не будет
Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя,
И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им.
Дети – с отцами, с детьми – их отцы сговориться не смогут. <…>
Старых родителей скоро совсем почитать перестанут;
Будут их яро и зло поносить нечестивые дети
Тяжкою бранью, не зная возмездья богов; не захочет
Больше никто доставлять пропитанья родителям старым.
Правду заменит кулак. <…> Скорей наглецу и злодею
Станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право.
Стыд пропадет. Человеку хорошему люди худые
Лживыми станут вредить показаньями, ложно кляняся.
Следом за каждым из смертных бессчастных пойдет неотвязно
Зависть злорадная и злоязычная, с ликом ужасным. <…>
К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных,
Совесть и Стыд. Лишь одни жесточайшие, тяжкие беды
Людям останутся в жизни. От зла избавленья не будет».
Во всем нашем безрадостном мире есть только одна инстанция, на которую уповает Гесиод – это Зевс. В отличие от первых поколений богов и нынешнего поколения людей, он страж справедливости и милосердия. Заповеди Зевса, кстати, очень схожи с христианскими – что вполне объяснимо, учитывая роль античной культуры в формировании христианства:
«Кто легкомысленно против сирот погрешит малолетних,
Кто нехорошею бранью отца своего обругает,
Старца, на грустном пороге стоящего старости тяжкой.
Истинно, вызовет гнев самого он Кронида, и кара
Тяжкая рано иль поздно постигнет его за нечестье!».
Есть у Гесиода и намек на грядущий «Страшный суд» Зевса:
«Зевсово око все видит и всякую вещь примечает;
Хочет владыка, глядит, – и от взоров не скроется зорких,
Как правосудье блюдется внутри государства любого.
Нынче ж и сам справедливым я быть меж людей не желал бы,
Да заказал бы и сыну; ну, как же тут быть справедливым,
Если чем кто неправее, тем легче управу находит?
Верю, однако, что Зевс не всегда же терпеть это будет».
Вернемся, однако, к тому, с чего начинали – а точнее, с чего хотели начать, да не начали – к «Теогонии». Эту поэму некоторые исследователи сравнивают с вавилонским космогоническим мифом, названным «Энума Элиш» (по первым двум словам – «Когда вверху»). В ней также речь идет о происхождении мира из космогонического хаоса и конфликте между поколениями богов. Но онтология Гесиода куда более инфернальна и скорее подошла бы Лавкрафту, чем Гомеру. В основании мира лежат четыре первосущности: Хаос, Гея, Тартар и Эрос. Между ними нет родственных связей – они рождены не друг из друга, а вслед (откуда они вообще взялись, поэт сообщить не счел нужным).
Эти сущности малоприятны – и это еще мягко сказано. Хаос с греческого переводится как бездна, зияние – из него родились Нюкта (Ночь) и Эреб (что-то типа Тартара, только хуже). «Страшная Ночь» произвела на свет очаровательное потомство: Смерть, Печаль, Злословие, Обман, Сладострастье, Труд, Голод, Скорби, Убийства, Беззаконие и всякое подобное [АИ 1].
Другая первозданная сила – Тартар – это нижняя часть мира, отстоящая от земли на то же расстояние, что и земля от неба. Гесиод описывает ее так:
«Медной оградою Тартар кругом огорожен. В три ряда
Ночь непроглядная шею ему окружает, а сверху
Корни земли залегают и горько-соленого моря.
Там-то под сумрачной тьмою подземною боги Титаны
Были сокрыты решеньем владыки бессмертных и смертных
В месте угрюмом и затхлом, у края земли необъятной».
Гея, в общем, не столь ужасна, как Хаос и Тартар, но и она рождает от собственного сына Урана всякую нежить:
«Дети, рожденные Геей-Землею и Небом-Ураном,
Были ужасны и стали отцу своему ненавистны
С первого взгляда. Едва лишь на свет кто из них появился,
Каждого в недрах Земли немедлительно прятал родитель,
Не выпуская на свет, и злодейством своим наслаждался».
Раздосадованная тем, что Уран не слишком жалует их общих отродий, Гея надоумила Крона отрезать отцу гениталии – от них родилась Афродита (в которой, кстати, ужасного не меньше, чем прекрасного, потому что эта богиня покровительствует любой страсти, а не только возвышенной).
Казалось бы, Эрос – «между вечными всеми богами прекраснейший» – отличается от трех других теокосмогонических сил в лучшую сторону. Но вот беда – сам по себе он ничего не рождает и упоминается Гесиодом только дважды: один раз в приведенной цитате, а другой – в контексте Афродиты, которой он стал сопутствовать. Если Эрос и участвует в порождении мира, то, вероятно, только как сила влечения – притом внеморальная (поскольку способствует всякому рождению).
Но потом всей этой разнузданной инфернальной оргии приходит конец – Зевс восстает на Крона и отправляет старшее поколение с глаз долой – в Тартар. После этого Зевс вступает в ряд браков, производя на свет вполне достойное потомство (в числе которых Афина, Справедливость (Дике), Мир, Аполлон, Дионис, Геракл и др.). С этого момента мир уже перестает быть воплощением ужаса – но, как мы уже читали ранее, на момент жизни Гесиода этот самый мир устраивал его чуть меньше, чем никак.
Стоит, однако, отметить, что Гесиод чтит героев «Илиады» и «Одиссеи» ничуть не меньше Гомера – «Называют их люди / Полубогами» – и помещает их на острова блаженных. Но если у Гомера их подвиги были в центре внимания, то Гесиода занимают совсем другие вопросы: земные тяготы и нравственный упадок. Формально оба поэта описывают одну и ту же реальность: боги на Олимпе, титаны в Тартаре, герои прекрасны. Но разница в мироощущении двух авторов колоссальна.
Мы уже говорили о том, что, если бы до нас дошел только Гомер, мы бы воспринимали греческое язычество одномерно – как чисто аристократическую идеологию. Представим себе и обратное: если бы остался только Гесиод, а Гомер не сохранился или не нашел отклика в греческой культуре, то нам бы пришлось ломать голову – каким, мол, образом столь пессимистическое мировосприятие смогло породить философию и науку. Этим вопросом задавался Ницше – но у него, как и у всех нас, перед глазами обе точки зрения – и эпически-героическая (гомеровская), и хтоническая (гесиодовская). В первой – прекраснодушные Океан и Тефида и героические мужи, а во второй – Хаос, Тартар, Гея, Эрос, целый выводок гнусных тварей и порочные люди. Посему, еще раз скажем: при оценке древних религий, от которых до нас дошло мало сведений, следует быть осторожными – ведь когда мы видим только одну их сторону, то уподобляемся тем, кто, как в известном примере, ощупывает слона в темноте. Религий, доживших до настоящего времени, это, кстати, тоже касается.
57. К Платону (3)
«Евтифрон. Но и я бы назвал благочестивым то, что любят все боги, и, наоборот, нечестивым то, что все они ненавидят.
Сократ. <…> Но подумай вот о чем: благочестивое любимо богами потому, что оно благочестиво, или оно благочестиво потому, что его любят боги?
Евтифрон. Я не понимаю, о чем ты, Сократ?
Сократ. <…> Называем мы нечто несомым и несущим, ведомым и ведущим, рассматриваемым и смотрящим? И понимаешь ли ты, что все подобные вещи между собою различны и в чем состоит это различие?
Евтифрон. Мне кажется, я понимаю.
Сократ. Значит, существует нечто любимое и соответственно нечто отличное от него, любящее? <…>
Евтифрон. Конечно.
Сократ. А значит <…> не потому его любят любящие, что оно любимое, но оно любимое, раз его любят? <…> Что же мы скажем, Евтифрон, о благочестивом? Любят ли его все боги, как ты утверждал?
Евтифрон. Да.
Сократ. Но потому ли они его любят, что оно благочестиво, или за что-то другое?
Евтифрон. Нет, именно за это.
Сократ. Значит, его любят потому, что оно благочестиво, а не потому оно благочестиво, что его любят? <…> Ну а богоугодное ведь является таковым потому, что оно угодно богам?
Евтифрон. Как же иначе?
Сократ. Значит, богоугодное, Евтифрон, – это не благочестивое и благочестивое – это не богоугодное, как ты утверждаешь, но это две различные вещи».
«Евтифрон» еще в античных платонических школах был одним из базовых диалогов – с него начиналось обучение платоновской философии. Мне это и сейчас кажется разумным – на семинарских занятиях я всегда начинал преподавание Платона именно с этого небольшого, несложного, но совершенно гениального сочинения. В отличии от большинства текстов Платона, здесь действие сфокусировано вокруг одной проблемы: поиска определения понятия ὅσιον – благочестия либо набожности (а если быть точным, благочестивого либо набожного).
Завязка такова: Сократ, обвиненный в нарушении благочестия и должный вскоре предстать перед судом, цепляется языками с Евтифроном, видным афинским жрецом-прорицателем. Действительно, у кого же выяснять вопрос о том, что такое благочестие, как не у священника? Однако, как мы можем догадаться, в процессе общения у авторитетного собеседника возникают трудности с определением, потому что Сократа не устраивают его простодушные ответы. Сначала Евтифрон говорит, что благочестивое – это то, что угодно богам. На это Сократ возражает, что, согласно преданиям о богах, те нередко спорят и враждуют друг с другом. Значит, их представления различаются (ведь иначе им не о чем было бы спорить). Получается, что благочестивое с точки зрения одного бога может быть нечестивым с точки зрения другого – и один и тот же поступок может и попадать под определение благочестия, и не попадать. Это нарушает закон тождества – идея благочестия перестанет быть собой, если одновременно будет противоположной себе.
Сократ предлагает поправку: благочестивое – это угодное всем богам, то есть то, в благочестивости чего боги согласны друг с другом. Это устраняет проблему тождества идеи благочестия, но тут же возникает другая, о которой, собственно, и идет речь в цитате. Ее смысл не так легко уловить, потому дадим комментарий. Итак, Сократ задает фундаментально важный вопрос: допустим, что благочестивое равно́ богоугодное (то есть благочестие – это угодное богам и любимое богами). У нас есть две понятия, которые, по Евтифрону, тождественны друг другу. Но: «благочестивое любимо богами потому, что оно благочестиво, или оно благочестиво потому, что его любят боги?». По сути, это вопрос о том, объективно ли благочестие. Да, боги любят благочестие, оно им, несомненно, угодно. Но почему оно угодно богам, за что они его любят? Они, как в песенке из 90-х годов, сами слепили идею благочестия, которую потом сами же и полюбили? Либо же они полюбили благочестие за то, какое оно замечательное, то есть за его содержание?
Для простоты приведем такой пример: Петя любит Машу. Можно ли сказать, что Маша является любимой? Да, потому что Петя ее любит. Но за что Петя ее любит? За то, что она любимая? Нет, это абсурд. Она любимая потому, что ее кто-то любит, а не наоборот. Так за что ее любит Петя? Допустим, за то, что она красивая. То есть Маша любимая и красивая. Но в чем разница между этими двумя машиными «свойствами»: любимостью и красотой? Очевидно, разница в том, что любимость является не ее собственным свойством – если завтра Петя ее разлюбит, то она перестанет быть любимой. А вот красива Маша сама по себе – это ее собственное свойство. Любить Машу или нет – это дело Пети, никак не влияющее на машину красоту. Любовь Пети зависит от Пети, а вот красота Маши от Пети не зависит. Ведь иначе мы должны были бы поставить знак равенства между любовью Пети и красотой Маши – но всякий скажет, что это разные вещи.
То же и с богами и благочестием. Сократ легко доказывает: благочестие угодно богам не в силу своей богоугодности, а в силу своей благочестивости. Грубо говоря, угодно оно богам или нет – это дело богов (они вправе сами выбирать, что любить, а что нет). К самому благочестию богоугодность не имеет отношения – также, как красота Маши не зависит от Пети. Благочестивое благочестиво само по себе, а богоугодно оно в силу угодности богам, и потому нельзя ставить знак равенства между этими понятиями. Так Сократ опровергает гипотезу Евтифрона.
Парадокс в том, что если выводы Сократа верны, то получается, что обвинение в его адрес вполне обоснованно – он действительно вводил новых богов. Ведь боги совершенны и всемогущи, ну а по Сократу получается, что высшие понятия (в данном случае, моральное понятие благочестия) существуют независимо от них. Любят их боги или не любят, знают о них боги или не знают – благочестие и все другие высшие понятия остаются собой, то есть являются независимыми от богов. Если боги не создают такие идеи и не властны над ними, то идеи по своему статусу оказываются выше богов. Получается, что сама идея благочестия в силу своей тождественности и объективности уже является нечестием – по крайней мере, у афинян были все основания считать нечестивцем того, кто таким образом лишает богов всемогущества.
Разумеется, Сократа судили не по богословским, а по политическим причинам – за его симпатии к Спарте и тесные связи с олигархами, устроившими в Афинах чудовищный террор 404—403 годов. Но показательно то, что Платон своим диалогом отчасти подтверждает выдвинутые обвинения. Интересно, понимал ли сам автор эту двусмысленность? На основании длительного опыта изучения платоновских текстов и комментариев к ним платоноведов скажу, что почти уверен: да, Платон все понимал – и увековечиванием памяти Сократа наносил удар не только афинской демократии, но и традиционной религии.
Надо сказать, что разбираемая богословская проблема не потеряла своей важности за все прошедшие века и тысячелетия. Если насчет объективности моральных категорий ведутся и внерелигиозные споры, то как насчет такого вопроса: может ли бог (если он существует) отменить или изменить таблицу умножения? Или сделать так, чтобы при а , вдруг стало a больше c? Иными словами, если законы математики объективны, то бог не всемогущ.