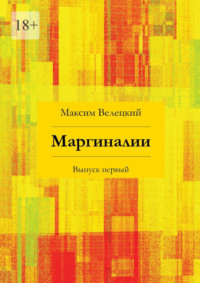Полная версия
Маргиналии. Выпуск второй
В высказывании Аристотеля интересно то, что и олигархию, и демократию он считает дурными формами правления. Однако – вот уж парадокс – их соединение создает хороший строй – политию: «Говоря попросту, полития является как бы смешением олигархии и демократии». То есть, по его мнению, излишнее обособление власть имущих, равно как и безрассудное народовластие одинаково губительны для общего блага, но, соединяясь, уравновешивают друг друга.
Важно заметить, что слова «форма правления», «государственный строй», «политический режим» имеют существенный изъян: они будто бы выражают некое стабильное, статичное устройство общества. На самом деле классики политической мысли сходились во мнении, что основа хорошего политического режима – это борьба партий, а не полное единодушие. Так, Аристотель в цитате говорит о «диаметральной противоположности» двух слоев, а Цицерон вскоре после слов об оптиматах и популярах говорит, что на протяжении истории между партиями «происходила борьба, так как желания народа расходились со взглядами первых людей в государстве».
Для людей, воспитанных в советско-постсоветской политической культуре, это нонсенс: ведь если партии ведут ожесточенную борьбу за власть, то это ж, типа, значит, что в государстве не все в порядке. После каждых выборов на Западе наш местный агитпроп объясняет: «американское общество разделилось пополам», «французский электорат раскололся», «Германия раздираема противоречиями, с которыми придется мириться будущему канцлеру» и т. д. Чаще всего это бред: единодушие в обществе – это признак тирании, потому что общество не может быть единодушно. А раскол возникает не тогда, когда, например, республиканский кандидат бьет демократического с разницей в двадцать выборщиков, а когда проигравшая сторона отказывается признать поражение и/или победившая объявляет противников врагами государства (как происходило в США в 2016-м и 2020-м). В общем, нормальный политический строй – тот, в котором идет открытая борьба верхов и низов, а не тот, в котором все друг с другом согласны. И, как следствие, такой строй постоянно меняется ввиду побед одних над другими, но при этом сохраняет за вчерашними побежденными возможность отыгрыша.
Самая, наверно, вредная политическая идея – что возможна такая система государства и права, которая избавит общество от «расколов». Мол, возьмем да за письменным столом придумаем государственное устройство, благодаря которому система будет самовоспроизводиться. И это будет этакий политический вечный двигатель, которому не будут страшны скатывания ни в тиранию, ни в анархию. Примерно такую утопию мы видим у Платона, государство которого задумано как неизменное (и в этом подражающее вечному божественному бытию): полная гармония всех слоев при активной ротации элит.
К сожалению или счастью, подобное абсолютно невозможно – государство состоит из живых людей, а потому никакие конструкции сами по себе не рождают гармонию. Более того, гармония народа и элиты – верный признак того, что элиты победили народ, но оставили тому иллюзию народовластия.
Все это не может не оскорблять наших нравственных и эстетических чувств – ведь выходит, что хорошее государство хорошо не тем, что его части взаимно уважают интересы друг друга, а в том, что, ненавидя своих оппонентов, ни одна не может быть настолько сильна, чтобы одолеть другую. Полития потому и называется смешением олигархии и демократии, что олигархи не настолько сильны, чтобы задавить народную свободу, а народ не настолько силен, чтобы насильственным образом отнимать и делить крупные состояния. Верно и обратное: низы не дают верхам сильно борзеть, то есть урезать свободу и грабить себя, а верхи не дают низам вершить произвол. Нарушение баланса неизбежно ведет к поражению тех и других – об этом и говорит Цицерон, излагая мысли Платона и присоединяясь к ним: «величайшая свобода порождает тираннию и несправедливейшее и тяжелейшее рабство».
Страшная ирония судьбы состоит в том, что уже через несколько лет после написания этих строк (трактат «О государстве» [АИ 60], De re publica), Римская республика погибнет после долгих веков существования. Ее уничтожит Цезарь – аристократ, примкнувший к демократам-популярам. Действуя от имени народа, он уничтожит народное правление – точнее, начнет уничтожать, а при его наследнике Августе республиканские институты уже превратятся в декорацию. При нем же будет убит и Цицерон – вместе со своим политическим идеалом.
Отвлекаясь от событий дней минувших, зададимся вопросом: а за кого следует быть человеку, желающему своему отечеству блага – за народные права или за интересы элиты? Меня этот вопрос давно занимает потому, что здесь разум вступает в противоречие с эмоциями (ниже будет объяснено, как). Чем больше я думаю над ответом, тем сильнее убеждаюсь в том, что по своим взглядам на государственное устройство я никакой не правый. Я центрист – и только потому, что сейчас система политико-экономических координат сместилась влево, я оказался правее центра. Вопрос о том, кого следует поддерживать – элиты или народные массы – я полагаю бессмысленным потому, что, по моему убеждению, баланс между ними гораздо важнее доминации интересов одних над другими. Если элиты представляют собой олигархию или олигархическую тиранию, следует быть демократом. Если идет перекос в обратную сторону и на горизонте уже начинает маячить опасность социализма, следует поддерживать элиты. Но в этом случае нужно, разумеется, помнить о том, что в рядах элиты немало демократов (в плохом, аристотелевском, смысле слова), ибо плох тот элитарий, который не мечтает стать олигархом – и плох тот олигарх, который не хочет стать тираном. Политическая борьба сложнее схем, а политики отлично имеют приспосабливаться к ветру перемен – а это значит, что гражданину всегда следует держать ухо востро.
Иначе говоря, выбор между оптиматами и популярами почти всегда ситуативен и имеет целью не победу одной силы, а сохранение между ними разумного равновесия. Потому меня всегда удивляли убежденные монархисты. Монархия имеет большие преимущества над олигархией и демократией именно в том, что способна выступать арбитром между низами и верхами. Однако неограниченная монархия опасна для государства – пусть и менее, чем чистая олигархия или чистая демократия. А вот быть принципиальным монархистом – это какой-то странный политический фетишизм, ставящий идею выше прагматики. Прагматика же в том, чтобы государство как форма существования нации способствовало общему благу («общему делу») в точном соответствии с легендарной формулой того же Цицерона:
«Государство есть достояние народа [res publica res populi], а народ не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью интересов».
Если монархия способствует республике (общенациональному делу), она хороша, если опасна для нее – она плоха. Обычно, кстати, монархия полезна – но это отдельный разговор, который мы еще не раз затронем в этой книге (например, в маргиналии «108. К Богемику»).
Делать чисто рациональный выбор в политических вопросах – не только трудно, но и не очень приятно. Потому что хочется выбирать сердцем, но увы – обычно это плохой выбор. Одно из первых моих «политических» впечатлений – это шахтеры из 90-х, стучащие касками из-за задержек зарплаты. У меня в голове не укладывалось – как можно не платить людям, которые ежедневно трудятся в шахтах. Как вообще такое может быть? Тогда я испытал искреннюю ненависть к олигархии (это слово я уже знал, потому что оно звучало в открытую) и чувство солидарности с простым народом. Конечно, в том конкретном случае шахтеры были правы на все сто процентов – но вообще, как я (к собственному удивлению) впоследствии понял, далеко не всегда требования и чаяния трудового народа являются истиной в последней инстанции. Чаще всего, он требует того, что не отвечает его интересам, и не требует того, что им прямо соответствует – потому ради народного же блага иногда следует поддерживать другую сторону.
Плюс народ верит во всякую дичь – об этом красноречиво свидетельствуют не только социологические опросы, но и то, насколько переменчивы их результаты. Да и тогда, в период шахтерских протестов, я был неприятно удивлен тем, что они быстро закончились (если не ошибаюсь, им заплатили). Ну а если иных (идеологических, а не экономических) претензий к власти у них не было, то странно присоединяться к мнению большинства просто по факту того, что оно большинство, что оно много трудится и что оно живет хуже, чем правящее меньшинство. Но, кстати, те акции горняков были проявлением политии – олигархия почувствовала угрозу и решила не связываться с суровыми мужиками. Сиди шахтеры тише воды, не получили бы ничего. Это я к тому, что тогда условные «популяры» надавили на «оптиматов» – вполне в соответствии с республиканскими идеалами Цицерона.
В общем. Быть всегда за народ и демократию – это ложный путь, в конце которого – «народная демократия» (а-ля КНДР). Быть всегда за олигархат из презрения к «плебсу» – это такой же ложный путь, ведущий к положению клептократической «банановой республики». Обе крайности объединяет одно – они фактически несовместимы с национальным суверенитетом, то есть ведут к гибели того самого общего дела – настоящей рес-публики.
61. К Эпиктету
«Если ты желаешь преуспеть, отбрось рассуждения такого рода: „Если я не стану радеть о своем имуществе, мне не достанет пропитания, а если не буду наказывать моего сына, он вырастет негодяем“. Ведь лучше умереть с голоду свободным от печали и страха, чем жить в изобилии, не имея покоя. Пусть лучше твой сын станет дурным, чем ты несчастным».
Удивительное дело: откуда такая забота о собственной чести – да даже не о чести, а об ощущении себя честным человеком? Откуда такое внимание к себе при полном равнодушии к основным жизненным задачам? Нужно ведь понимать специфику античного сознания, в противоречии к которой проповедует Эпиктет (50—138): заботиться об имуществе и потомстве считалось базовыми обязанностями добродетельного мужа – думается, именно поэтому философ-стоик выбрал в качестве мишени именно их.
По большому счету, такая степень индивидуализма не слишком отличается от «после нас хоть потоп». Нет, ясно, что беспечальная жизнь моральной машины, которую и должен представлять собой образцовый стоик, непохожа на беспечальную жизнь гедониста, но их объединяет гораздо больше, чем хотелось бы самим поклонникам философии Эпиктета. Здесь важно подчеркнуть, что он был радикалом даже по стоическим меркам – к обычной для этого направления суровости он добавил аполитизм. Например, когда его спросили, справедливо ли, что дурные люди имеют деньги и власть, он ответил, что это справедливо, потому что они и хотели именно таких наград за свои хлопоты, а честный человек имеет свою, более ценную награду – чистую совесть. Он говорит: «Они начальники, а ты нет; они богаты, а ты нет. Да ведь ты и не домогался того, чтобы быть начальником или богатым?». На это следует логичная реплика оппонента:
« – Это, положим, так, но, по-моему, гораздо справедливее, чтобы тот, кто думает и живет праведно, был впереди всех.
– [Эпиктет.] Да он и так впереди в своем деле: в правильном мышлении, в праведной жизни. А те люди впереди тебя в своем деле: в богатстве и в почестях. <…> Нельзя делать двух вещей зараз. <…>
Тот [кто стремился к власти – М.В.] вставал до зари и только о том и думал, как бы подольститься к дворцовой челяди, одарить кого следует, как бы понравиться другу Цезаря, как бы повредить одному человеку чтобы выслужиться у другого. Когда он и молится, он думал только об этом. Он горюет, когда пропустил случай задобрить сильного человека; он боится, не поступил ли он нечаянно, как честный человек, и тогда он сожалеет о том, что не соврал, а поступил честно».
В том, что касается денег, с Эпиктетом нельзя не согласиться (хотя большинство людей считают иначе): действительно, деньги обычно есть у тех, кто заточен на их приобретение и преумножение. А тот, кто занят иными делами, редко наживает капиталы – это вполне естественно, ведь, действительно, «нельзя делать двух вещей за раз».
Но в том, что касается власти, Эпиктету нельзя не возразить. Вопрос оппонента ведь не в том, как добиться власти, не стремясь к ней, а в том, что было бы справедливее, если власть находилась бы в руках справедливых людей. То есть вопрошающий мыслит политически – его рассуждение можно перефразировать так: как же добиться того, чтобы нами управляли хорошие люди? И вот тут-то Эпиктет оказывается не просто аполитичным, а антиполитичным философом – его ответ можно выразить следующим образом: пусть власти добиваются всякие негодяи, а нас, выбравших стезю добродетели, должна волновать лишь собственная совесть. То есть философа не интересует государство как таковое – власть пусть властвует, а хорошие люди пусть хорошеют.
Но, спросим мы, что же тогда будет с государством, если власть будет отдана на попечение властолюбцам, корыстолюбцам и прочей сволочи? А Эпиктет нам ничего не ответит, потому что просто не поймет вопроса, ведь политическое целое его не волнует – он философ индивидуальной и индивидуалистической морали. Он мыслит на уровне «человек-человек», а не «человек-общество».
Сразу после последней цитаты он произносит:
«А если ты вправду хочешь верно мыслить и хорошо жить, то ты, напротив, будешь искать свои ошибки и думать только о том, как бы исправить себя. Ты будешь помнить, что ничего, от нас не зависящее, не должно ни печалить, ни радовать нас: ни тело наше, ни богатство, ни слава. Ты будешь помнить, что у тебя есть совесть и разум, которые только и могут привести тебя к душевному спокойствию и счастию».
Сомнений нет – прекрасно думать о том, как исправить себя, но думать только об этом и не беспокоиться ни о сыне, ни об имуществе (как говорилось ранее) – это какой-то странный синтез минимального честолюбия и… максимального самолюбия. Вдумаемся: неужели забота о собственной добродетели настолько важна, чтобы ради нее пренебрегать общим благом? Речь не о том, чтобы оправдывать высокие цели негодными средствами, но просто о том, чтобы не ставить собственную персону выше всего и всех – но нет, такой дискурс Эпиктету глубоко чужд.
Мне, правда, могут возразить, что для него добродетель должна была быть активной, то есть обязательно подтверждаться добрыми делами – и, действительно, он часто говорит о необходимости неустанной помощи ближнему (например, предпочитая книжной теории добрых дел реальные добрые дела):
«Мне надо стараться служить другим, а не себе; мне надо быть всегда готовым оказать людям ту помощь, которую они от меня просят, если я могу по совести оказать ее. Когда я буду постоянно работать для других, то не стану жалеть о том, что не успел прочесть или написать какой-нибудь книги <…>. Ведь такие книги только для того и пишутся, чтобы приготовлять читателя к добрым и полезным делам. Значит, когда мне приходится показать на деле то, к чему я готовился, то я не могу уже отговариваться тем, что мне будто бы нужно все еще приготовлять себя к делу чтением или писанием книжки».
«Служить другим, а не себе». Эпиктет здесь заблуждается, притом заблуждается фундаментально. Что здесь понимается под собой? По-видимому, собственный интерес, то есть корысть. Хорошо, допустим, надо быть бескорыстными и действовать на благо других и, как он пишет, по совести. Но вот задача: можно ли служить другим, не служа своей чистой совести, а поступая против нее? Для него такая постановка вопроса была бы абсурдна – как, мол, это можно служить другим, поступая против нравственных императивов, против добродетели?
И вот тут мы подходим к главной проблеме – нет, не проблеме стоицизма, а главной проблеме всей теории морали: как совместить добрые помыслы и добрые дела. Большинство споров о морали прямо или подспудно связаны именно с тем, как сохранить чистую совесть и при этом принести пользу другим. Наивные этические системы не видят тут противоречия: поступай в соответствии с добродетелью и в результате получится благо. О, если бы это было так, наша жизнь была бы во много раз проще!
Увы, между исполнением морального долга и достижением морального блага нет прямой связи. Можно поступить хорошо – и принести вред. Можно поступить дурно – и принести пользу. Потому, собственно, все моральные теории обычно делятся на деонтологические (построенные вокруг понятий долга и совести) и консеквенциалистские (направленные на результат). Чтобы не разбирать их во всем многообразии, в применении к вышеописанной дилемме деонтология – это «делай, что должно, и будь, что будет», а консеквенциализм – это «благими намерениями вымощена дорога в ад». Эпиктет – типичный сторонник первого варианта: поступая на благо других, он блюдет себя, он дорожит своей добродетелью. То есть служит себе.
Но представим себе, что перед таким вот Эпиктетом (или эпиктетовцем) поставили выбор: собственнолично убить одного невинного, либо воздержаться от этого, но обречь на смерть сотню других (их убьют те, кто задумал испытать совесть философа). Да, пример достаточно банальный (в целом эта группа задач восходит к так называемой «проблеме вагонетки»), но показательный – можно ли взять на душу грех и совершить зло, но избавить мир от большего зла? Что ответил бы наш стоик, не приходится сомневаться – я, мол, не отвечаю за поступки других, я забочусь о собственной совести – и если они хотят убить сто человек, то это их решение, на которое я не могу повлиять: поставить меня перед таким выбором было их делом, а мое дело – не делать зла собственными руками.
Конечно, не дай бог никому из нас оказаться перед подобным или хотя похожим выбором, но минус эпиктетовской версии стоицизма именно в том, что для него здесь нет никакой дилеммы – человек отвечает только за себя, только за свои поступки. На индивидуальном уровне это вполне разумно и добродетельно – но что делать, если человек волею судьбы отвечает и за других – например, по должности или семейному положению? может ли он ставить свою совесть выше чужих судеб? – этими вопросами будет вечно мучиться человечество, и никакие теории не могут разрешить конфликта индивидуального долга и общего блага. Но слабость теории Эпиктета не в том, что она однозначно занимает одну из позиций в конфликте, а в том, что она вообще не замечает самого конфликта. Она слепа к понятию ответственности и общей пользы – и доказательством тому то, что даже беспокойству о собственных детях она, как сказано в первой цитате, предпочитает личное счастье (пусть и в добродетели, но все равно личное и все равно счастье).
К слову, другие великие стоики не впадали в такие крайности – ведь были государственными мужами. Вот они-то – Сенека и Аврелий – действительно, в подлинном смысле слова «служили другим, а не себе». Они не были столь беззаботно счастливыми как наш герой, но такова плата за ответственность перед народом и отечеством. Политика – это искусство возможного, а потому подразумевает компромиссы. В том числе, компромиссы с собственной совестью.
Это, конечно, не оправдание всем порокам власть имущих. Не всем. Но некоторым – да, оправдание.
62. К Диогену Лаэртию
«Гермипп в „Жизнеописаниях“ приписывает Фалесу то, что иные говорят о Сократе: будто бы он утверждал, что за три вещи благодарен судьбе: во-первых, что он человек, а не животное; во-вторых, что он мужчина, а не женщина; в-третьих, что он эллин, а не варвар. Говорят также, будто однажды старуха вывела его наблюдать звезды, а он свалился в яму и стал кричать о помощи, и старуха ему сказала: „Что же, Фалес? ты не видишь того, что под ногами, а надеешься познать то, что в небесах?“».
Книга Лаэртия «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» всегда вызывала споры историков философии – особенно в той части, где автор излагает биографические казусы. Насколько они достоверны – действительно ли все эти события имели место или являются плодами воображения современников и потомков? Можно ли их использовать для реконструкции жизни и учений философов? Заметим, что в подлинности баек не уверен и сам автор – так, в приводимом фрагменте он говорит о том, что один и тот же казус атрибутируется то Фалесу, то Сократу. Не входя в предметные споры и рассмотрение позиций по данному вопросу, следует ответить следующим образом: вне зависимости от того, происходили ли на самом деле казусы, указанные Диогеном, они представляют интерес для понимания взглядов философов. Иными словами – даже если таких эпизодов не было в жизни философов, то они были сочинены не просто так.
Античность вообще мало интересовалась биографиями как таковыми – этот жанр закрепляется уже в новую эру, потому представление, согласно которому жизнь человека является путем, стезей, историей с внутренней логикой – по сути своей не античное. Тогдашний человек вел себя так, как это предписывалось его возрасту и социальному положению. Глубинные трансформации, возрастные кризисы, драмы (делящие жизнь на до и после) не то чтобы не случались с людьми, но точно не были в центре внимания древних. И хотя Диоген жил уже в новую эру, это старое восприятие человека как неизменной сущности у него выражено в полной мере. Например, в самой, наверное, веселой главке [АИ 62] – о своем тезке Диогене (Синопском) – Лаэртий сообщает нам о раннем этапе жизни легендарного киника (от рождения до примыкания к Антисфену) и несколько версий о его смерти, а дальше остается только догадываться о хронологии событий. Хотя автор указывает, что киник умер в 90 лет, все анекдоты о его жизни излагаются без указаний на возраст – хотя для нас сегодняшних, когда не менее важно, что что – одно дело, если вот эту выходку он учудил в 25, а другую – в 75. Античного автора же это совсем не интересует, потому что взрослый человек как бы всегда равен себе.
Конечно, к спекуляциям на тему отличия античного сознания от современного нужно относиться достаточно осторожно, но, действительно, похоже на то, что тогда жизнь воспринималась не как история жизни, а как хроника: родился человек, вырос – и потом просто себе жил, оставаясь примерно одним и тем же. И потому не было потребности писать биографии в привычном нам виде.
А вот реконструкция учений философов на основании баек вполне возможна. Даже если сами истории вымышлены от начала до конца, они возникали не на пустом месте – они отражали и содержание, и тип мышления. Чтобы было понятно, о чем идет речь, возьмем современный грубоватый анекдот (без мата он теряет всю свою прелесть):
«Выходит Пушкин из кабака в обнимку с двумя барышнями, а прямо перед выходом в луже лежит вусмерть пьяный.
Одна из барышень обращается к поэту:
– Александр Сергеевич, мы столько о вас слышали! Продемонстрируйте нам своё искусство!
– Слушайте… Лежит безжизненное тело на нашем жизненном пути…
Пьяный поднимает голову:
– Тебе, мудак, какое дело? Иди, блядей своих ети!
– Ой, дамы, пойдёмте, это Серёжа Есенин».
Представим, что до нас не дошло вообще никакой информации о Пушкине и Есенине (ни одного биографического факта, ни одной строки – ничего) – кроме примерных дат их жизни. Сопоставляя последние, мы сможем смело заключить, что такого казуса не могло быть в принципе. Однако. Стои́т ли за этим анекдотом хоть какая-нибудь реальность? Говоря иначе, можем ли мы вытянуть из него информацию для гипотетической книги «О жизни, произведениях и изречениях русских поэтов»?
Как ни странно, да. Что здесь говорится о Пушкине? Во-первых, что он любил гулянки. Во-вторых, что любил женское общество. В-третьих, что он писал короткими размерами (в данном случае – четырехстопным ямбом). Что из этого соответствует действительности? Всё: да, возможно он проводил время не в кабаках, а в ресторанах, и выходил оттуда не с двумя дамами, а с одной, но в остальном все вполне достоверно. Заметим, что даже метрика «Лежит безжизненное тело» та же, что у «Мой дядя самых честных правил»! А что нам здесь говорится о Есенине? Во-первых, что он напивался до состояния нестояния. Во-вторых, что он в такие минуты был агрессивен. В-третьих, что его поэзия была грубее, чем у Пушкина – и даже содержала матерщину. Ну, все так ведь и было, правильно?
Заметим об этом анекдоте важную вещь: он теряет смысл, если подставить в него других поэтов. Ну, например: в начале «Выходит Лермонтов из кабака в обнимку с двумя барышнями» – а в конце «Ой, дамы, пойдёмте, это Коля Гумилев». Или: «Выходит Бродский из кабака в обнимку с двумя барышнями» – а в конце «Ой, дамы, пойдёмте, это Дима Быков». Ноу. Не смешно, потому что недостоверно не только исторически, но и психологически и эстетически. Вряд ли сочинитель нашего анекдота продумывал все эти детали – нет, просто интуиция подсказала, что под этот сюжет лучше всего подойдут именно Александр Сергеевич и Сергей Александрович.