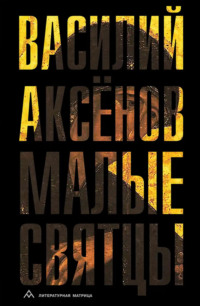Полная версия
Блики, или Приложение к основному
– Молодец… А жаль кого?
– Что, не кого, – говорит Иван. – И, что, окурка никакого?
– Нет. Выбросил. На кухне, – говорит Илья, – в ведре помойном… Что тебе жаль?
– Что ты не передумал, – говорит Иван. – На кухню выходить пока опасно…
– Они давно уже дерутся… чуть ли не сразу, как ты убежал.
– А за диваном? – говорит Иван. Диван с места сдвинул, окурок отыскал, диван назад к стене придвинул. Закурил.
– Оставишь.
– Что тут оставлять?..
– Раз затянуться! – говорит Илья. И говорит: – Жить всё равно здесь не смогу.
– Жить надо как, а не где, – говорит Иван.
– Философ, – говорит Илья.
– А где ты сможешь?
– Прекрати!.. Тошнит. Да где угодно, – говорит Илья, – только не в этой… не в концлагере… Сам всё понимаешь. Копать Шумер, Месопотамию… меня кто, ты отсюда выпустишь?.. Включи магнитофон.
– Нет, уже поздно, – говорит Иван. – Ещё ли рано… На, – говорит, Илье окурок передав. – Там всё и без тебя давным-давно на десять раз, если не больше, перекопано.
– Ой, не смеши меня!.. Что, клумба, что ли?.. Перекопано, – говорит Илья. – Чайник поставь.
– Я предлагал – не захотел, теперь обойдёшься, – говорит Иван. – Туда не сунешься: и чайник – тот сметут с плиты. Марина в комнате, Кирилл уснёт – тогда. Жан-Жак же пишет…
– Да прекрати ты! Сколько можно… Жан-Жак, Жан-Жак… Достали с этим чёрномазым. Бедный, никто его там, питекантропа, не пожалеет. Конечно, чем ему была тут не житуха – все его поили, сердобольные, кормили, девки в постель к себе подкладывали, чтобы не замёрз один ненароком, гамадрил тропический. А там и на фиг никому не нужен. Что он вам дался?!
– А тебя там ждут, как будто, не дождутся…
– Ну вот и бота бегемота… опять двадцать пять. И ждут. Ты что, без Люськи отупел… кровь застоялась… Кто это так?
– Соседка. Кто… Тут больше некому…
– Запомнить надо… И я там никому не буду нужен – и прекрасно… Тут уж опёки – выше горла… А не убьёт она его?
– Не беспокойся.
– А вдруг?
– Тебе-то что?.. Не хоронить… Они – любя.
– Любя. Слоны, и те, пожалуй, тише любят… Так и прекрасно, что не нужен, и дела до меня там никому не будет никакого, и отлично, зато здесь каждый, начиная с детсада, в чужую душу, как в свою копилку, залезть старается… без мыла… Копай и копай, а это мне там обеспечено… Я ж говорил тебе про дядю?
– Да уж наслышан… Уши прожужжал.
– В любой архив, какой понадобился, к любому материалу доступ – пользуйся. Деньги на экспедицию – заявку только грамотно оформил, и вряд ли кто когда спросит фамилию мамы… что до замужества была.
– Ну а потом?
– А что потом?
А у Ивана в памяти – как от безделья – такой горшочек разом склеился:
Прежде чем сделаться грейдеристом, то есть, как шутил дорожный мастер, «пойти на повышение», обретался Иван в доротделе от яланской дистанции № 2 «на подхвате». Помогал в гараже тем, кому заняться было нечем. А когда отсутствовали и те, кому надо было помогать, тогда разъезжал по тракту на своём мотоцикле, выкапывал старые, подгнившие столбики, вкапывал свежие и прибивал к ним новые флуоресцентные знаки дорожной грамоты. Прежние были уже как решето. От пуль, конечно, и картечи. Чем не мишень? Дробь только краску с них сдирала. Трудился с Иваном в паре такой же, как он, «подхватчик». Кирсан Иванович Лебедь. Бывший кубанский казак, бывший махновец, бывший петлюровец, бывший зелёный, синий, белый и красный, бывший военнопленный, семидесятипятилетний дед, вырабатывающий себе пенсию, до которой так и не дотянул – смерть обскакала пенсию, ибо бегает налегке. Мотоцикла боялся Кирсан Иванович, иное ли что на уме держал, а поэтому и работал пешком по тракту. К каждому столбику, на каком бы расстоянии те ни находились один от другого, Кирсан Иванович, ликом похожий на Николая Васильевича Гоголя, а фигурой и походкой – на субтильного героя Чарли Чаплина, поспевать умудрялся вовремя. Подходил, дёргал рукой уже приколоченный Иваном знак, проверяя крепость и справляясь о его значении, щедро нахваливал сделанное и уже после вращался вокруг обнятой им оси, большущими, как у водолаза, башмаками трамбуя возле столба глину. И так оно обычно до обеда, а после вот как: отобедав, Иван ехал дальше, а Кирсан Иванович, кивнув на солнце и дождавшись попутки, отправлялся домой. Обед у них по длительности делился поровну с рабочим днём и ценился Иваном дорого. Умело Кирсан Иванович разводил небольшой костерок, устраивался около него удобней, съедал неизменные три яйца, сваренные вкрутую, и три шаньги, творожные или картофельные, запивал всё это чаем или ячменным кофе. Насытившись, вынимал засаленный кисет синего когда-то плюша, сворачивал «козью ножку», размером едва ли не с натуральную, раскуривал её от головни, отваливался на локоток, ноги строил башмак на башмак и, создав плотную дымовую завесу, отлетал в своё прошлое, разрешив напарнику кататься от хохота рядом, с риском угодить в костёр. Велись рассказы с серьёзным лицом, истории не имели счёту, но склеился горшочек вдруг из этой, эта и будет тут в пример.
«Двор, хлопец, – короб с верхом, охты-мохты. В хате – татарину негде присесть – небелью сплошь заставлено, и не какой-то там анбарною, а хоромной, заграничной. В огородишко камень забросил – неделя прошла, глянул, редька взошла. Ну а курей – тех батька мой семь сотен держал, куря к куре, как на подбор. Да оно, задумайся-ка, и не диво – родитель у них один, турецких кровей был кочет, янычар злонахрапистый. Что ты! Зверь! И кукарекал не по-нашему, с подвывом, будтобыч гимн хохляцкий или польский пел. Плешивый только, как бабья коленка, но боевой, за подмогой к соседу не бегал, сам управлялся – всё и штопором, как ни посмотришь. Хоть и горькая, но истина. Зорька грянет – глаза со сна разлепят, с насесту сорвутся, крыльями взмашут – станица в чох вся поголовно. Табак-то кто нюхал, тому ещё ничего, тому, кто не нюхал, тому, брат, беда… Митингом шумным сгоношатся, лозунги оскорбительные намалюють – и штурмом к нашей хате, словноча к Зимнему, на Измаил ли, оратора поязыкастей изберут, на капедру из бочки возведут, вилами в зад торопят, подбадривают по-всякому, тот, хочет или не хочет, речь толкает, глотку продувает: «Или вашим всем курям хана, или самим вам, Лебедям!» А батька – и глух был, как баня, и ядром турецким подкантуженный, и читать ни по какому не умел, и меня никогда не спрашивал – надумает, будто с почестями к нему как к гярою Крымской войны заявились станичники, кресты на грудь понацепляить, грудь колесом, прямо как петел наш турецкий, выгнет, из хаты инператором важно выступит и давай всем в пояс кланяться. Люди обескуражутся, оратора с капедры сдёрнут, изобьют, будтобыч сноп, измолотят и подадутся с митинга по домам. А вот курям как, хлопец, не судьба, так, охты-мохты, не судьба. Деникин, станицу нашу только занял, до единой всех поел, большой любитель был курятины, плешивым осеменителем – и тем не погнушался. Врангеля в гости зазвал и угостил им, плодоносцем, с клёцками. Курей, как уж сказал тебе, поел, а из пуха подушек заставил наделать, себе две оставил и по две приятелям своим разослал: Мамонтову, Краснову и Каледину. Трезвым последнего и не припомню. Всё с фуражкой набекрень, всё плоскуша со спиртом в планшетке булькает. Но армию свою, шельмец, на сухом режиме держал, как где какого под мухой заприметит, так шомпол в ход – и фарш из бойца… С пухом, значить, готовое дело, с пером ещё разобраться. Ординарцу поручил Деникин матрасину им, пером этим, набить, потом велит к себе адъютанта, тот тут как тут, в оглоблю по-белогвардейски вытянулся, руку к кондырю – и: гав, гав, гав! – слушаю, мол, ваше благосковородие. А Деникин ему и толкуить: «Приказ не приказ, Егор, но вот тебе поручение самой что ни на есть наимонаршей важности. Тюк вот тебе секретный – чтобыч он к вечеру же нынче был у Петлюры! К большевикам, смотри, не угоди с ним!» Сказано – сделано, исполнительный был Егор, не горе что и дурак, честно служил полководцу, верой, как говорится, и правдой – той-то уж и вовсе. А тому, Петлюре, уже все сведения донесла разведка: и о том, что да как, и о том, что кому. Осерчал до гнева Симон Васильевич, обиделся не в шутку, матрасину шашкой вспорол, Егора в дёгтю измазал, в пере его дарёном повалял и вытолкал вон из штаба: ступай теперь, мол, куда хошь, хошь к самим чертям-большевикам. А нынче цигарку кручу из газеты и читаю: там, на Кавказе где-то, снежного мужика кто-то встретил, а на снимок глянул – Егор и Егор. Он и есть. Такой – сутулый, долговязый и расцветкой под перо от курей наших… Но не про курей, хлопец, я, а про быка, – говорит Кирсан Иванович, дым изо рта тучей выпускает и шевелит угли в костерке таловым прутиком. И продолжает: – Шесть штук у нас их было, в одну пору, не порозень, но того здоровее, не помню, чтобыч где и когда видел. Кости в нём как кости, мясо на костях как мясо, а с поля припрётся, в стойло заходит – у кота в хате шерсть на загривке становится дыбом, и мыши по углам дохнуть. А тут, как в Сараеве случиться, в Болгарии ураган народился. Там бы ему и помереть, нет, паразит, до нас добрался. Всех разорил. И, охты-мохты, без разбору – где зажиточный, где босяк, где мужик, где хохол, а где казак – в небо всё зафинтилил сначала, затем в Кубань сверху швырнул – и скот, и людей, и хаты с расположенным в них скарбом. Что всплыло, то хоть и с драками, но поделили, а что утопло, то уж, хлопец, навсегда в ил засосало. И революции б не надо: всех уровняло. Хватился батька – а быка нема; пятеро тут, а шестого нет и, охты-мохты-перемохты, самого дорогого. И поревел же он, герой крымский, подрал на себе одёжку мокрую. А к месту подходим, смотрим: рогами в липу наш бесценный воткнут. Стихии упирался, как это после мы уж рассудили, а та чуйствуить, пустое дело с ним, с быком, тягаться, не Болгария, возьми да и отступись без всякого сигнала да поменяй стратегию на тактику. Вот наш придурок и вонзился, будтобыч пружина, сжали которую и отпустили. Ходили, ходили около, мозгами пошевеливали. Рубить липу – жалко: одна от поместья и осталась, и мёд уж шибко запахучий с неё пчёлы брали, от англичан за ним к нам приезжали, те уж какие привереды: без еспертизы хлебу не надкусят. Ломиком отодрать пытались – череп бычий трещит, словныч скворечник, ну и удумали рога под корень отпилить. Но не судьба кому, хлопец, так не судьба, с судьбою не поспоришь: как германцу двинуться, мне как на фронт засобираться, с неба, со стороны луны, метеорит сорвался и – метил будтобыч – порешил быка, только – яма, где стоял тот, а по краям её – хвост да башка насильственно комолая напротив – во как Боженькин посланец припечатал. Всё вот и думаю, в кого же целил-то? Ведь не в быка же – тот, как младенец, без греха был. Ну, тут на смерть вродебыч идти, наплевать на всё должно будтобыч, но на яму взгляну – сердце ёжиком. И мне-то жалко, ну а батька – тот и вовсе закручинился: ночь не спал, не спал другую, так-то, когда без горя, про кажен пустяк с надсадой думал – почему ветер дует? почему снег с неба падает? – ведь лёгкий; почему собака не мычит, а лает? Почему вошь мелкая, а слон большой? – с быком же этим, охты-мохты, приключилось как, всю бороду себе истерзал. На третью ночь – берёт фонарь, провизии на сутки, мешок рогожный да тесак поострее – и в яму. Жаркое, мол, хотябыч достану, пока не стухло. Так до сих пор известий, хлопец, никаких, так никакого, братец, сообщения…»
Согласно другой истории, так же вот на привале возле костерка поведанной спустя неделю или месяц, отец его, Иван Тарасович Лебедь, герой русско-японской войны, на старости лет будто задумался вдруг крепко о Боге, бросил всех и всё и, охты-мохты, пустился каликой перехожим ко Гробу Господню, в Турции, оголодав нестерпимо, поймал в саду паши или главного визиря павлина будто, удушил его, отеребил по-скорому и съел сырого и без соли, за что и брошен был в темницу, так из которой и не вышел, но письма длинные оттуда посылал семье, прочитать которые не мог никто в станице, даже писарь, так как набросаны были они будто бы по-турецки, – но не об этом тут, ибо история уже другая.
А месяцем позже, двумя ли, уже под осень, у костра, как и обычно, отобедав, направился Кирсан Иванович в сторону дома и шёл, пока не утомился, – попутки не было, а то подъехал бы – потом присел на обочину передохнуть, к сосне спиной прислонился, «козью ножку» свернул, закурил, в прошлое своё отлетел вместе с дымом, но назад не вернулся…
– Что ты несёшь? – говорит Илья. – Работать я там буду. Рабо-о-отать. Понял?.. Работать. А потом, и где бы я ни жил при этом, хоть в бочке, как бомж Диоген, потом не будет ничего, будет маразм, сплошной ма-разм, как у моей бабушки, буду по три часа просиживать в нужнике, не впуская туда других, вытирать, как она, попу пальцем, извини за подробность, бредить о вечном Израиле и писать дерьмом на стене слово «РЕАСЕ». Вот тебе и Бог, и ностальгия, и переоценка, и вся мура твоя та остальная, что ты к ним прилагаешь, полный набор из наших российских умников-дегенератов, оторвавшихся от титьки-родины, а к другой какой не присосавшихся… по импотентности своей… душевной и физической… да всякой, кроме «ля-ля-ля». Но что-то надо же успеть! Сколько ж болтать, и дело надо делать!..
– Ты не кричи! Раскипятился, – говорит Иван.
– Я не кричу! – говорит Илья. – Только не вижу разницы… Будто ты здесь кому-то нужен!.. Может, кому-то и понадобишься, чтобы в душе твоей «загадочной» поковыряться, любителей на это много! Что за детсад! О чём ты это? Не смешил бы. Из православия вас ловко вышибли, а к здравому смыслу не привели, так где-то между и болтаетесь.
– Я не про то, что кто-то где-то нужен кому-то, – говорит Иван. – Хотя и это… Дело в том, кто без чего не может… И пересел бы – штаны испачкаешь… уселся!
– Отстираются, – говорит Илья. – Лень протереть?
– Фабрика рядом, говорил же… С тряпочкой только и будешь бегать… не напротираешься.
– Знакомая черта… Не фаустовская натура… Рядом! – говорит Илья. – Но не в квартире же, Обломов. Теперь живи тут, как свинья… Что, без берёзок твоих, что ли? Да? Мне эти песни вот – по горло!
– Ладно.
– Я без работы не смогу… Чтобы без всяких там спецхранов, без спецпропусков и допусков и без другой подобной мутоты… наелся! Хватит. А если к тем опять баранам – про твои берёзки, то в этом смысле и Платон был гражданином не ахти каким, а Ксенофонт и того хуже, и Данте – тот всех уверял, что отечество для него везде, где он – тьфу! – может любоваться звёздами, работать и размышлять о высоких истинах, но не жертвуя при этом достоинством и не подвергаться позору. Съел, патриот?.. Ну, на здоровье! К тому же… если дети… прости меня… не здесь же их растить и воспитывать… да и рожать!..
– А где?
– Сказал бы где, да сам по тому месту соскучился… В стране свободной. Понял?
– Есть и такая? Уж не Шамбала ли?
– Есть, старичок. Есть. И не одна. Дурачком-то не прикидывайся, не юродствуй – плохо смотришься. К счастью, не все свихнулись на марксизме… Пусть там лесов, полей и рек не так уж много, зато дышать вольней – это уж точно.
– Ладно, не это… Разве это важно?
– А что? Что?! Важнее что? Другое что-то – не свобода? Знаешь, так просвети, не маринуй, обязан буду!
– Не знаю… вернее, знаю, но не знаю, как сказать…
– Вот, вот… Все вы, как собака… Спинным мозгом что-то чувствуете, а вместо того, чтобы чётко сформулировать, или скулите, хвостиком повиливая, или воете.
– Во всяком случае, не самоцель… Ты же историк.
– Так и что?
– И должен понимать, что эта самая свобода, какую ты в виду имеешь, не любит подолгу засиживаться на одном месте – то она в Афинах, то в Риме, то во Флоренции, то где-нибудь ещё, или одна, или с правами человека…
– На мой век хватит… Ну так и?..
– И до Китая доберётся.
– Не понял.
– И твои дети, ты же о них печёшься вроде больше, или внуки, так колесить за ней и будут, за твоей свободой? А смысл какой, если сюда же и придётся…
– О-ой, перестань, пожалуйста, вот этого не надо. Не надо песен, старичок. Во-первых, на то она, Земля, и круглая – самим Богом предусмотрено. Во-вторых, ни детей, ни внуков ещё нет, значит, и говорить пока не о чем, в твоих понятиях. А в-третьих, уж от кого бы от кого, но от тебя-то это слышать не хотелось бы.
– А почему?
– Да потому.
– Ну, всё-таки?
– Противно.
– Я ж ничего ещё и не сказал… сказал одно только: не знаю.
– Не знает он… рассказывай вон девкам… А когда Мишку Натансона загребли, припомни, и перетрусивший до смерти Гоша, гузноблудец, среди ночи приволок к тебе – всё под диван вот этот запихали – баул Солженицыных, Авторхановых, Конквестов, Оруэллов и прочих евангелистов от террора, а ты, как Пешков маленький, взахлёб читал потом всё это, а?.. Забыл?.. Неделю носу не показывал на кафедре…
– Нет, не забыл. И что?
– Да ничего… Что, что… Я прихожу…
– Не нервничай.
– …Стою, кричу – нет чтобы пригласить – он вылетел, как обдолбанный, заблевал всю Карповку литературной рвотой – ох как расстроился, бедняга… мог бы и тут, зачем же было выбегать?.. Прямо как барынька из Достоевского… Точно как Пешков, хнычет мне в жилетку – всё, к чёрту, жить он здесь не сможет: что за страна-де!.. Он не знал!.. Забыл?
– Нет, почему же… Ну и что?
– Что – что, что – что… не помню, что там в решето… Учёбу забросил и уехал к маме… Ох, чёрт, прости, Ванька, прости… Ну, в самом деле, как-то автоматом…
– Да ладно, – говорит Иван, – не бери в голову.
И вроде пауза, но небольшая, такая вроде – в троеточие. И после паузы Илья:
– Эх, старичок, – говорит, – старичок… Да, кстати, если ты христианин, то где отечество твоё?.. На небе, там и наследство… ха-ха-ха… так что не надо про берёзки. – И с подоконника долой. – А сколько времени? – И снова – после: – Прочитал я твои, словесник, рассказы. По-моему – дребедень… ты уж прости… страшилки детские. Что ни рассказ, то ружьё, и все палят – уж обязательно. Не можешь Чехова ослушаться?
– При чём тут Чехов?
– Так вот и я как раз о том же. По птичкам бы – куда ни шло… тех, правда, тоже жалко… по медведю… А они, что, у вас там только пьют всё да стреляются?
– Кто?
– Конь в пальто… Кто! Мужики.
– Нет, почему?.. Живут.
– И написал бы – как живут.
– Знаешь!..
– Да ладно, ладно, сочиняй. Только бы, старичок, и о читателе немного позаботился… так страшно.
– А ты бы, правда, шёл домой, а то опять мать на такси сюда примчится за тобой.
– Не примчится, – говорит Илья. – На даче.
– Как?.. А бабушка?
– Иркина очередь, её неделя. График.
– Ну, всё равно иди, – говорит Иван. Зевнул. И говорит: – Мосты разведут… обратно не пущу.
– Да нужно очень, – говорит Илья. – К девкам на Чкаловский подамся, курсовые их почитаю. Интересно, что понаписали.
– Давай, – говорит Иван, – давай. И с подружками ко мне не заявляйся больше… у меня всего две простыни, а я не прачка.
– Да для тебя же ведь стараюсь, глупый, – говорит Илья. – Что бы ты без меня делал… А простыни твои мне не нужны. Своя скатерть в сумке.
– А скатерть для чего? Ты на столе уж, что ли, практикуешь?..
– На потолке, кретин… Ирка в сумке моей роется – то сигареты ищет, то конфеты…
– А скатерть-то?
– Брал на пикник, мол… Конспирация. Ладно, пойду, с тобой тут скучно, – говорит Илья. – И завтра рано просыпаться.
– Иди, – говорит Иван. – Надоел.
Засмеялся Илья. И говорит:
– Грустно мне с тобой, Сергей Есенин, – поднял с полу свою сумку, повесил её на плечо и вышел. Вернулся тут же и говорит: – Чуть не забыл… Спит Люська крепко?
– Ну и что?
– Да ничего. И Юлька тоже… Может, как-нибудь, когда уснут, поменяемся местами? Кайф, старичок… ты представляешь?
– Беги, беги, – говорит Иван. И говорит: – Зачем только из медиевистов в археологи переметнулся…
– Надо было, и переметнулся.
– Трепался бы про Меровингов, голову девкам морочил… Хотя тебе без разницы, про что болтать…
Сам себя в коридоре Илья оставил, голову лишь просунул в комнату. Громко хохочет. И говорит:
– А как насчёт групповичка? Устроим?.. Э-э-э, толку-то с тебя… Садись, строчи буколики-георгики, Феокрит-Гесиод сибирский… бота бегемота, – и исчез, исчез со смехом.
Хлопнула дверь. Прошло минут пять. И:
– Валя! – конспиративно ухнул двор.
На кухне кастрюля об стену, наверное, стукнулась: бух-х! – и об пол после: бах! – и по полу ещё прокатилась: дяк-дяк-дяк! От резкого, неожиданного звука такое ощущение у Ивана, будто там, внутри, сорвавшись с полки, упала, охнув, его душа. Вопль-отбой протрубила Марина, стала дверь баррикадировать.
«Нас напротив, во-он – как та сосна – так же вот через дорогу, Мелеховы жили. Ещё и нас зажиточнее были. Курей – тех, правдыч, не держали, а не держали потому, хлопец, что батька ихний табаку не нюхал. Кино-то было, Гришку, поди, видел?.. Товарищ мой, ближайший самый, да. На Дон-то апосля они перебрались, когда Котовский спьяну хату ихнюю пожёг. Ох и бандюжный был, не дай и Бог. С приятелем со своим, с Пархоменкой, охты-мохты, соберутся, четверть горилки вольють себе за воротник, в дорожку столько же ещё прихватють, поцепляють шашки на бок, кубанки на затылок, глаза на лоб и – бей своих, чтобыч чужие боялись. Одного и уважали только. Был там такой, атаман кошевой, Кочубеем звали. Да нас с Гришкой не касались…» – «Да. Да. Но за кого ж ты воевал, Кирсан Иваныч, я не пойму?» – «А за тех, кто словит, хлопец, за тех и воевал». – «Но ты же говорил, что ты герой Гражданской». – «А разве нет? Ты повоюй под разными-то стягами, под командирами-то разной масти походи… нагрузка шибкая на голову…»
– Ва-ля! – двор уже громче и настойчивей.
Поднялся Иван с дивана, подошёл к окну, рукой махнул, в окно не глядя, и подумал:
«Сивков и Синкин».
II
Тысяча девятьсот сорок третий год. Шестнадцатое мая. Тисецкий военный госпиталь. Старое трёхэтажное кирпичное здание под крутой зелёной четырёхскатной крышей. На втором этаже одно из окон, что смотрят в давно уже оживший после зимы сад, распахнуто настежь. В саду щебечут птицы.
Пять часов утра, едва ли больше, но уже светло. Входит в палату тихо, как кошка, медсестра Катя. Чувствует Катя лёгкое веяние сквозняка, обегает палату взглядом, обнаруживает причину и сразу же направляется в дальний угол, чтобы закрыть окно. Закрывает. Поворачивается. Справа от Кати койка с голой сеткой. Слева на койке… Откидывает Катя одеяло и видит подлог – рулетом свёрнутый матрац. Брови у Кати ползут вверх.
Катя: Ой!
Просыпается один из раненых.
Раненый: Что с тобой?
Катя, но не тотчас же, а чуть помедлив: Боже мой!.. Опять сбежал Безруков! (видимо, ещё сомневаясь в своём предположении, заглядывает глубже под кровать – с Безрукова, с того станет).
Раненый, отрывая голову от подушки: Да ну?! Да быть того не может!.. Гляди-ка, точно.
Просыпаются почти все. Все, кто может, приподнимаются в кроватях на взлокоточки, кто не может, те косят глазами в сторону, где стоит Катя, но не поймут пока, чем она так озадачена. Катя хороша собой, миловидна, особенно утром, после недолгого, но сладкого сна; кожа на её юном лице свежа и не помята. И посторонний, окажись он тут, заметил бы: всем Катя нравится, всем по душе, но больше всех тому – проснувшемуся первым. Для Кати это не секрет. Сейчас, однако, не до этого ей. Бровей – как будто вскинулись и закрепились – не опуская, Катя всплескивает звонко руками и прижимает их к груди.
Катя: Ещё же рана!.. Ещё же, боже мой, и швы! (И выбегает из палаты.)
Все смотрят на дверь, за которой скрылась Катя, затем – на койку, где ещё вчера лежал Безруков, рассказывая байки про охоту и рыбалку в Сибири.
И почти все: Сбежал-таки!
Кто-то один: А далеко ли?.. Словят.
Год тот же, но месяц – июнь, и число его – пятое. Горьковская область. Пойма реки Керженец, другой ли какой, очень на неё похожей. Низкий и плотный, будто приплюснутый воздухом сверху, туман напоминает чайный гриб. На уютном заливном лугу, отрыгивая в тишине степенно и смачно, отдыхает коровье стадо. Часа четыре. Утро. С востока медленно наступает бледный пока свет. Над туманом стелется серый дым, цепляется за часто торчащие из тумана коровьи рога, на них наматываясь, словно вата. Под старой, раскидистой ивой догорает костёр, потрескивает редко и негромко. Возле костра, свернувшись калачом и с головой запрятавшись в дождевик с куколем, спит подпасок малолетний. Лежит бездвижно. Пастуха поблизости не наблюдается. Пастух купается, стараясь вышибить из головы случайный хмель. Егунов Иван Лукьянович. Накупался до посинения, но хмель, похоже, не вышиб: покачиваясь, из воды выходит. Скачет то на одной ноге, то на другой, пытаясь выгнать из ушей проникшую туда влагу. Фыркает. Потом вдруг резко замирает. Шарит испуганно по берегу глазами. Одежды его нет. Вместо неё валяется бумажный плакат, на котором изображён перед носом плюгавого, остроносого Гитлера здоровенный советский кукиш. На обратной стороне плаката химическим карандашом написано коряво, но разборчиво: «Извиняй, мужик, не нужда бы, дак не взял, не приспичило бы, грех такой не принял бы на душу, и без того обременён, а чтобы после этого жилось тебе хошь малость спокойней, то знай, что не вор какой приблудный слямзил у тебя одёжу, не залётный прощелыга, а я – красноармеец Митрей! Пока без адресу, до адреса пока что мне далековато, может быть, к осени и доберусь. Помолись, мужик, за меня Богородице, Заступнице нашей. И святому мученику Иоанну Воину». И с новой строчки: «Еслив бывать мне доведётся тут когда-нибудь, дак возверну, чем и своим ещё, может, дополню – мы по росту-то с тобой как будто одинаковые, да и нога вон, чувствую, такая же, – а не придётся, свет не ближний, то с кем и переправлю, а нет, дак не обессудь и свыкнись, всё равно когда-нибудь истлеет, не вечное, возле костра ли прогорит. Глянул, кургузка на локтях проносилась. Да и Бог велел делиться, поди, помнишь – не татарин-то? А мальчонку, мужик, подыми – тепло-то оно тепло – и хорошо, что тепло, и постояло бы так, дак ладно, – но от земли обязательно натянет, жалко, еслив простудится – слягет – тебе же скучно без него будет. Ну, и прошшай».