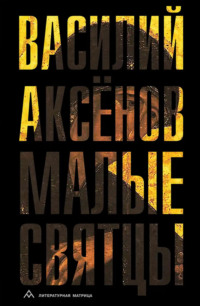Полная версия
Блики, или Приложение к основному
Подумал так Несмелов, глянул на портреты, задержавшись дольше на Иосифе Виссарионовиче, после сказал:
– Совсем, похоже, одичал, сам-то с собой уже беседую… Собаку, что ли, завести? Только кормить её кто будет?
На живот со спины вывернулся и лицом в травяную подушку уткнулся. Безучастен дух уснувшей навсегда травы, сам себе толкует сонник через дрёму, своей заботою исполнен, так что и спрос с него невелик, не жди от него сочувствия. Ничего и не ждёт от него Несмелов. Просто лето, глубоко вдыхая этот запах, представить пытается летний луг, а на лугу – собаку и хвостом вильнуть её заставить пробует. Но бесполезно. Прахом лето, прахом луг. А с собакой, с той и вовсе худо: так та и не народилась. Другое выплыло перед глазами.
Канун Чистого понедельника. К исходу шумная неделя масленичная. Гулянкой она была встречена, пирушкой был отмечен и её последний – Прощёное воскресение – день, венцом которому и было это.
Раскрошился иглами колюче, хоть и струится, и стелется вроде мягко, по безбрежной, глухо заснеженной тайге и по измятому метелями – чуть ли не месяц не стихали – насту лунный свет. Как над котлом с кипящим варевом, клубится пар над полыньёй, поднимается облаком выше яра и закрадывается изморозью в ельник, тревожа ночующим там воронам и без того зыбкий сон, – сидят в ветвях, нахохлившись. И в них, в клубах пара, рассеян лунный свет матово и густо. И висит в этом свете большое радужное колесо кольцом венчальным – к крепким морозам, если доверять примете. Похоже, сбудется: прижимает ночь от ночи.
Мчатся – большой костёр на речной косе разожгли мальчишки, к нему торопятся – по берегу, растянувшись в длинную, бесперебойно звенящую колокольцами и бубенчиками цепь, разномастные, но одинаково обелённые куржаком кони, влекут за собой лёгкие, хоть и полные весёлыми ездоками, сани. И впереди всех, в ладной, как игрушка, но для двоих нынче не тесной – на облучке, на небе будто – кошевой, оторвавшись значительно от остальных, – они, будто ликующие с ангелами… На этом бы видению и оборваться, смениться ли другим, чем-нибудь радостным из детства, и не мучить бы жестоко человека, но нет: шаль на милой в инее сверкающем, и лицо её овалом серебрится… «И потом, через год, так же вот, как сейчас, – говорит Несмелов, – так же, да? Скажи, что да!» – «Не знаю… Дожить надо», – говорит она. «Так, так, считай, что дожили, – говорит он. – И через год так, и через два, и через десять лет, и до старости, до смерти, помяни моё слово… А теперь давай по фамилиям, по буквам, – говорит он, – у кого в фамилии сколько букв, столько тот и…» – сам по себе умолк, перебить некому, пауза за него красноречиво досказала: лес, и тот даже внимал, как будто вымер на минуту, то хоть сова где ухнет, мышь ли пискнет, тут – ни звука. «Хитрый какой», – говорит она после той паузы. «Служба у меня такая, – говорит он. – Ну, нет, так нет. Можно и наоборот: ты – по моей, я – по твоей, – и об ресницы её уже шёпотом: – Дуся, Дусенька, душа моя. Не вижу день – и помираю». – «Что? Я не слышу!» – «Что, что?!» – «Я! Не! Слы-ы-ышу!» – «Я говорю: Бэ – е – сэ – тэ – а – ва – шэ – вэ – и – ли – нэ – вэ – вэ – э – а!» – «Ну ты и ловкий! Может, как-нибудь ещё придумаешь, может, Беставашвилинововова?!» – говорит она и смеётся. «Ну, дак а как?!» – говорит он и тоже смеётся. И конь – тот вроде повеселел – и конь смеётся, а то бежал, будто обиженный или голодный. И там, сзади, кто-то захохотал, из догонящих, наверное, – догнали, обошли и соломой в них ещё швырнули; или так это: топот – хохотом?.. Просмеялись все и зубы спрятали от стужи. И она, Дуся-Дусенька, душа его, Несмелова, дышит, чтобы нос не ознобить, – не заметишь, как и отморозишь, – через варежку и говорит: «А ты как будто и не знаешь!» Сказала так, скосилась на него и, не отнимая от лица руки в варежке, из-под ресниц лучисто улыбается. И он, Несмелов, улыбается, он-то уж так: рот до ушей. «Знаю, знаю, – говорит, – как не знать: Несмелова!» – «Ага!» – «Ага – Несмелова Авдотья!» И молчат опять: опять целуются – но так, без той затейливой игры, которую, дурачась, предложил Несмелов, – как Бог на сердце им положит, так и целуются; какие уж тут буквы, Господи, какая уж игра, дело святое – не до шуток, за той, за шуткой-то, лишь скрыться, когда с волнением не совладать. И всё бы ладно, всё бы ничего, звезда вот только, что над ельником зависла одиноко, мешает – в глаз остро-остро, словно колонковой остью, уязвляет, стоит тот чуть лишь приоткрыть, – но перестанет скоро докучать: опустится за ельник. И был он в теле ли, вне тела, когда с ним это совершалось, спроси его – он не ответит…
И бормочет Несмелов в подушку: так же, так же, как же, мол, не так-то… полгода только так и было, а потом иначе, да так иначе, что и по сей час никак не очухаться: трах-ба-бах и – Сухова!.. Ага – Несмелова – ох, мать честная, вот где дурак-то, дак дурак, – и, продолжая бормотать, но чем дальше, тем неразборчивее, надавил Несмелов пальцами на плотно сомкнутые веки, до рези в глазных яблоках – не помогло, только яснее проявилось. В неисчислимый уже раз распознал всё до мельчайшей подробности: и шаль персидскую, искристо отороченную инеем, и лицо её, красиво шалью обрамлённое, и из-под шали выбившуюся прядь каштановую, и над ельником в небе звезду одинокую, и друзей, с саней на них глядящих весело, и глаза её – по цвету – как хвоя кедровая, и… вдруг – Сухова, того отчётливо, как во плоти…
Оторвал Несмелов голову от подушки, в руках её, подушку, стиснув, головой мотнул резко, но не смог предотвратить – успело обозначиться предположительное место встречи, уже давно им в тайных мыслях облюбованное, назвалось внятно: «Медвежьи увалы» – покорился наваждению, подумав: «Глуше места и не подобрать». И тут же Сухову, тому как будто: «Вот и подгадало: один на один, раньше бы… лет на двенадцать!» – да так, что ногам в валенках сразу тесно и жарко стало, так, что мурашки по спине засеменили… А там, на рыжей от ржавчины осыпи, куст ольховый – жив он, куст этот, высох ли? – с ходу и не разберёшь, торчит, в глаза бросаясь, среди редких старых, раскидистых сосен – один тут. Расплелись корни его в оголении, свисают в обрыв, как ботва увядшая с повети, содрана с них кора начисто дождями и песком, плоть их, похоже, в труху источили жучки – на чём он, куст, только и держится? Ветви без листьев: если мёртв уже, не ищи в нём ответа, если жив ещё, не понять по нему, что теперь – весна или осень? Какая разница, значительно другое: рослый, за кустом стоит он, Сухов, в начищенных до блеску и смятых в гармошку хромовых сапогах, в тёмно-синих плисовых штанах и в красной сатиновой рубахе, новой будто, ни разу, если судить по окрасу, ещё не стиранной, яркой настолько, что и смотреть на неё устанешь скоро, – стоит он, Сухов, ремешком узеньким ослабь опоясанный, щёголь щёголем, будто шёл мужик, выфрантившись, на гулянку, а сюда, на Медвежьи увалы, попал невзначай и забыл напрочь, куда направлялся – так кажется. «Эй, павлин, ты повернулся бы, – говорит Несмелов. – В спину, как ты, стрелять не стану: как ты, по-подлому, не умею», – и с наганом проделал такое: вынул его из кобуры, разомкнул, патроны проверя в барабане, снова сомкнул и после вскинул. Словно вмёрз наган тотчас в воздух – разожми Несмелов пальцы, рукоять из ладони выпусти, не упадёт наган сразу, пока не вытает, как ему, Несмелову, представилось, даже лежит и будто чувствует, как пальцы закоченели, как пощипывает их в подушечках, – так вовлекло его во мнимое. И вот ещё: вроде всё на тот момент устроилось неплохо. И пора оказалась бесснежная, следы не надо будет заметать, и ни одной живой души рядом. В одном худо: ветра нет, дохнул бы слабый – куст качнул бы, тишь такая напружинилась в увалах, ни птицы, мимо пролетающей, никого и ничего, что куст бы шевельнуло, – в пропасть упал бы, не мешал бы целиться. Ему, Несмелову, не сдвинуться в сторону, ни на шаг, ни на полшага. Справа, к плечу впритирку, стена крутая из песчаника, слева, чуть подошвой не сползает, – отвесный обрыв, и никак не поменять ему позицию – не властен так же, как над сновидением… Плавно, словно с чирием на шее, оглядывается Сухов на окрик, смотрит из-за куста скучно, как с фотографии, с той, плиту надгробную которой бы украсить… «Нет, не так, – говорит Несмелов. – Как на девку озираешься! Повернись, шут гороховый, как следует!» Словно болел долго и ослаб, исполняет Сухов вяло то, что ему велено: становится, как избушка на курьих ножках, к лесу задом, к Несмелову передом. «Ну вот, а то…» – бурчит под нос себе Несмелов. И говорит тут же громко: «Взял и наврал ей!.. чего не было… чего и быть-то не могло!» Молчит Сухов; под ремешок ладони сунул, куст, за которым стоит, разглядывает беспечно. И кричит озлобленно Несмелов: «Сам! Сам же блядил с Акулиной-кержачкой! Не я. Оговаривал с умыслом! Своего добился, сволочь!.. Вот теперь и расплатись!» И танцует мушка на лбу у Сухова – наган оттаял, – недостаточно на лбу ей, беспокойной, места, на грудь Сухову перескакивает, там сатин, приплясывая, красный вспарывает с треском… И уж, сдирая с пальцев кожу, роет он, Несмелов, под ольхой песок, выгребает, закусив язык от боли, глубокую яму. Вырыл, выбрался из ямы и, вокруг поозиравшись, столкнул в неё убитого. И оттуда, со дна ямы, смотрит Сухов на него невозмутимо, словно сам туда забрался – полежать, попялиться на небо – может быть, видны ему из ямы звёзды, хоть и день, как из колодца… Хватает Несмелов пригоршнями песок и швыряет им в глаза Сухова, но и веком тот не дрогнет… «Нет, нет, не так, – шепчет в панике Несмелов, – так собаки… или зверь какой найдёт и откопает», – и ещё что-то шепчет, несвязное, что и сам вряд ли понимает. И уж тащит волоком к берегу тело, бросает его в Шайтанку – как факел, в красной рубахе падает с яра высокого Сухов. Не тонет тело, плывёт, как икона. Бежит Несмелов по берегу, воду в реке обогнать пытается, падает. Поднимается, снова бежит и падает снова – устали ноги, отказывают – онемели, стеснённые в валенках… «Ишь чё! Ну, надо же, упарился. Не диво. Горло смочил бы, а, Пал Палыч», – говорит ему так будто Засека. «Фу ты, чёрт», – вслух говорит Несмелов. И чуть позже: «И взбредёт же в голову… ну, мать честная!» И долой с кровати. Налил из чайника, глотнул и сморщился. Выплеснул на пол из кружки остатки. Пошёл на кухню, донышком ковшика оттеснив колотый лёд, зачерпнул студёной из бадьи, пить принялся, кадык гоняя. С ковшика на гимнастёрку чуть не льётся. «Печь надо протопить, – подумал, на шесток скосившись мимо ковшика – заросла уж паутиной… горло смочил бы!.. Ишь ты, шустрый». Ковшик повесил на бадью, в прихожую вернулся, в оконце глянул, потерев стекло ладонью прежде, но ничего, кроме прихожей, косо отражённой, да самого себя, не различил и повалился снова на кровать, заскрипев протяжно сеткой. И веки смежить не успел ещё, как тут же:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.