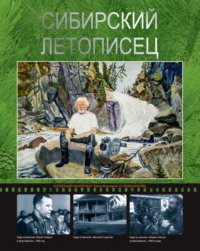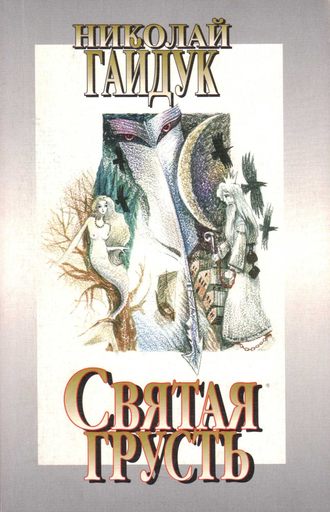
Полная версия
Святая Грусть
Промокшие пастухи – на рассвете сыпанул тёплый дождик – взялись на голубоватой излучине костерок оживлять. Отраженное пламя под берегом шевелило красноватым плавником и уходило на дно. Склоненная верба неподалеку стояла – выгнутым удилищем, паутинка белёсая билась на ветру обрывком рыбачьей лески.
Овечья отара, кнутами трескучих молний сбитая в шерстяной комок, испуганно прижалась к подножью скалы. Три-четыре овцы, заплутавшие в тумане, блекотали за ручьем, распухшим от дождя. Пастухи кричали что-то. Один из них бродом побрёл – грязные босые пятки оставляли на берегу продолговатые лунки, лоснящиеся жирным чернозёмом, перемешанным с травинками и лепестками цветов.
А над этими земными пастухами – звёздный Волопас виднеется, своих волов пасёт на поднебесных пастбищах; тучные, косматые волы; набили брюхо за ночь; сытые звездастые глаза слипаются – утомленный Волопас уходит на покой.
По берегу Хрусталь-реки прошлёпал сонный рыбак, итогами сырую траву причесал на косогоре – сизый след вздымился.
Туман проглотил рыбака. Голоса за туманом:
– Клюёт?
– Не, балуется тока.
На заре должна клевать.
Должна, да не обязана.
Теперь обязана!
Это почему же?
Был царёв указ. Посмеялись, потом вздохнули:
Да-а, вот хорошо бы указ такой! А то сижу, сижу… – пожаловался пожилой рыбак. – А ты из городу? Что там слыхать? Казнили?
Ждут палача, – ответил молодой.
Да вроде бы должон быть ещё вчерась?
– Шторм, говорят, задержал корабель.
Рыбаки закурили. Молчали. Молодой присмотрел себе место – неподалеку. Приманку в воду бросил – пшено с тихим звоном проткнуло поверхность; пузырьки повскакивали там и тут, словно глаза водяного, изумлёно посмотревшего на мир.
3Сверху Звездочёту было видно, как в реке за островом обломок белой молнии судорожно бился, напоминая большую рыбину, буром побежавшую на нерест – и застрявшую на камнях переката: вода кругом кипела, пенилась черемуховым цветом. Рыба-молния с каждой секундою теряла силы, кровь теряла – заревыми лучами текла. Белая «рыбья» хребтина померкла. Серебристой чешуею по реке побежали искринки засыпающей рыбы-молнии.
Рыбаки смотрели – не могли понять.
Что там? Глянь-ко! – спросил пожилой.
Стерлядь играет, наверно.
Не-е, на осетрину похоже.
Здоровущий, бугай! – похвалил молодой.
Пудика на два потянет!
Ага, не меньше.
– Эх, неводом бы, неводом зацепить бы его! То-то была бы уха!
– Из петуха, – задумчиво срифмовал молодой. – Уха из петуха, я слышал, будет нынче во дворце. Будимиру кто-то скрутил башку.
Будет врать! Когда скрутили? Он только что зарю прокукарекал.
Не знаю. Бабы врали у колодца, я услышал, когда на рыбалку пошёл.
Звездочёт остановился на своей поднебесной дороге. Усмехнулся, думая: «Вот так-то в нашем царстве-государстве сплетня рождается. Ладно, дальше идём. Не забыть бы, сколько насчитал. Во, а кто это едет по берегу? Царская карета? Августина августейшая опять куда-то… И куда это они с бабкой Христиной зачастили в последнее время? Катаются по утрам и вечерам, а того не видят, что за ними охотится наконечник поющей стрелы. А у меня во лбу всего два глаза, а на затылке вообще ни одного – я не могу за этою стрелою уследить. Вчера едва успел отвести беду от Августины. Сегодня снова сторожи. А кто за меня посчитает алмазные россыпи в небе? Небось, когда завечереет – вынь да положь вам небеса в алмазах!»
4Оранжевый Арктур горит в созвездии Волопаса, сияет из последних сил на юго-восточной окраине светающего неба. Арктур – самая яркая весенняя звезда. Оранжевыми паутинками отрываются от неё трепетные лучи – летят, летят по ветру и цепляются за горные вершины, падают в туманное бездонье пропастей и попадают в прохладные хвойные лапы.
Кусты зашевелились, роняя росы. Шепоток в кустах:
Глянь!
Чего там?
Девка голая купается!
– Ну?.. И правда… Ух ты, тля… – Он выругался. – Пойдем, пощупаем!
Сиди, не мыркая. Вон карета, видишь? Царская карета. А там – за деревом – ишо одна. Там гренадёры с пищалями.
Дак это што – царица?
Выходит, што так.
Ух ты! Никогда не видел ни царского заду, ни царского переду!
Тише, скалисея тут…
А што она, дура, купается здесь? У их под окошком пруды.
– Царская блажь.
– Ну, известное дело. Кто-нить когда-нить её ублажит.
Сырые кустики сомкнулись. Два дурохамца, пригибаясь, ушли с поляны. За плечами одного из них – увесистый бочонок, перетянутый медными полосками. В бочонке глухо плещется ведёрка два спиртяги. У другого за плечом – старое кремневое ружьё и такой же бочонок.
Спиртоносы уходили от Фартовой Бухты; там у них секретные подвалы с этим зельем.
Разбередила душу, баба чёртова! – признался молодой дурохамец. – Давай по стопарику тяпнем?
А потом? На подвиг не потянет?
Не-е, для сугреву. Промокли же, ёлки, под дожжиком.
Старший дядька промолчал. Только сапоги скрипели, разгрызая камешки на пути, растаптывая синенький да красненький цветок – сыроватое рыло сапог припорошило пыльцой. Так прошли версту, другую… Птичьи голоса весёлым бисером вышивали сиреневую тишину в деревьях, костлявыми руками держащих то сосновую иголку, то крепкую и длинную бояркину иглу. Иволги, дрозды строчили в сумраке. Соловей узоры выбивал. Глухари на токовищах угорали, разноцветным веером раскидывая крылья и хвосты.
Молодой остановился, похрипывая горлом. Скинул под ноги бочонок.
Отдохнем. Што ты прёшь, как сохатый?
Отдыхай, только не очень, – сказал старшой, показав глазами на бочонок. – А я с ружьишком прогуляюсь, может, кого сострельну для похлёбки.
Старшой потянулся, расправляя плечи, натянутые грузом. Звали его Спиртодон – ну, то бишь Спиридон. А прозвище было и того интереснее: спиртонос по кличке Спиртувнос. Дело в том, что он спирту никогда не пил, а только в нос закапывал, да и то по праздникам. Есть у него наперсточек из серебра. Возьмет, закапает с наперсточек, повеселеет малость, окосеет на полглаза, и хватит. Меру знал – немыслимое дело для многих мужиков, особенно для дурохамцев. За это его ценили, уважали. И на этом как раз он наживал себе состояние: пока другие дурели и хамели во хмелю – этот ходил, торговал, мошну золотьём набивал.
Дубравы светлели, и жизнь о себе заявляла все громче, все веселее.
Вверху что-то хрустнуло. Спиртодон ружьишко вскинул… И подумал, опуская: «Ишь ты, паразит, какой красавец!»
Двухметроворослый величавый зубр, пасущийся по белокопытнику, легко взошёл на голую вершину – многопудовым чёрным силуэтом нарисовался на фоне светлеющего неба, размашистыми рогами «поддел» синеватое облако, плывущее над головою. Застыл на несколько ми-пут, словно зачарованный рассветом, открывшимся с вершины.
Молодой чуть слышно по траве подошёл к Спиртодону.
Свежий воздух за спиной погиб – запахло перегаром.
Стреляй, чего ты? Спирту в нос тебе!
Жалко…
Ну, одного-то можно? Дай ружье! Спиртодон!
Какого «одного»?
Да хоть того, хоть этого. Они же одинаковые, твари!
Старшой повернулся. Ухватил за грудки молодого, потряс.
Я же сказал тебе, не пей, зараза, много!
Да я и так… я тока пригубил.
Ну и здорова губища у тебя!
А што такое?
Где ты видишь двух быков?! У тебя же двоится уже… Как мы дальше пойдем?
Заслышав голоса, могучий зубр покинул голую вершину.
Поправляя смятую рубаху на груди, молодой спиртонос проворчал:
– Ну вот, теперь ни одного. Упустили, ёлки. Одного-то можно было хлопнуть.
Спиртодон поглядел на хмельного парнягу. Разозлиться хотел, разгон учинить. Но вдруг повеселел и сплюнул под ноги. Ружьишко за плечо закинул и сказал:
– Здесь царские владения. Пальнешь, потом на плаху поведут, – старшой потянулся. – Хорошее утречко, так его! В нашем Дурохамском Дуролевстве я никогда не видел такого утра!
Да ты вообще дурохамец ли?
Наполовину. Мамка святогрустная была.
Оно и видно.
Почему?
Не пьёшь, не куришь. Зубров пожалел. Уж одного-то можно было грохнуть.
Спиртодон засмеялся.
Нравилась ему эта земля; родная как-никак, хоть наполовину, а родная. И появилась даже тайная мыслишка: богатства побольше сколотить да пойти с челобитною просьбой к царю – пускай принимает к себе. Надоело, дескать, жить с дурохамцами. Небось, не откажет, царь добрый здесь.
5Поднимаясь над горами, солнце растягивало красную улыбку вдалеке. Умытыми щеками сияли золотые купола Царь-Города. Солнечными зайцами поигрывали высокие окна боярских теремов, купеческих хоромин… Круглые далёкие озера за холмами, налитые светом, желтели, как шляпы огромных подсолнухов. Светло-берёзовые русла ручьёв и рек, отражая зарю, приобретали цвет красноталов, подрагивающих на ветру…
Завиднелись купола и домики соседнего царства-государства, расположенного за хребтом, – захребетники там проживают. Паруса кораблей забелели в безбрежных просторах… Это заморыши – гости заморские – опять зачем-то гребут, спешат в гостеприимную страну Святая Грусть.
Глава тринадцатая. Фартовый парень Серьгагуля Чернолис
1Царские Палаты имеют столько закутков, подвальчиков, подвалов, заброшенных комнат, где хранится всякая всячина, – можно легко заблудиться, а при желании очень легко где-нибудь притулиться.
Бедняжка Доедала нашёл себе пристанище в тёплом сухом углу Дворца. Здесь пахло пылью, парчою – тюки разноцветной парчи были навалены под потолок. В другом углу под самым потолком – слабый солнечный свет кое-как протиснулся в игрушечное оконце – чуть больше ладони.
Сегодня в гостях у Бедняжки – фартовый парень Серьгагуля Чернолис. Гостя надо угощать. А как же? Да ещё такого дорогого гостя.
Доедала вытащил баранью ногу, завёрнутую в парчу. Два арбуза выкатил. Зелёный штоф с вином.
Друг познается в еде, как говорил мой покойный тятя. Ну, угощайся.
Да я на минуту к тебе.
Всё равно присаживайся. Шапку можешь снять, здесь жарко.
Нет, я хорошую мыслишку застудить боюсь.
Серьгагуля выпил царского вина. Захорошело под сердцем. И закусить захотелось. Он поправил шапку – сдвинул на затылок. Закатал рукава. Раннее детство его прошло, говорят, среди туземцев на островах Океании. Это было похоже на правду. Пищу Серьгагуля руками хватал из тарелки. Хватал – торопился, как будто из горла могут вырвать кусок. Жир капал на одежду, за рукава затекал желтоватыми ручейками.
Бедняжка Доедала сам был страшен во время еды, но этот парень – ещё страшнее. Вот уж действительно: «друг познается в еде».
– Всё, хватит, некогда. Ещё винца глотну и побежал.
Серьгагуля уже вознамерился рукавом утереться, но Бедняжка протянул ему платок. Богатый платок был – красная парча с махровой кисеёй. А Серьгагуля взял его, будто портянку. Торопливо, как попало вытер лоснящуюся рожу. Наморщил нос и неожиданно сморкнулся.
Куда! Зачем в платок-то?!
А куда? – не понял Чернолис. – На пол, што ль?
Доедала обиделся:
Ну не в такой же платок!
Ничего, разживешься другими платками, – сурово отчеканил гость, сдвигая на лоб шапку из чёрной лисы. – Будь здоров, Бедняжка. Я побёг.
Давай, попутного тебе… Когда обратно ждать?
Загадывать не буду. Скоро, думаю. Печать-то настоящая? Впросак не попадем?
Впросак – это не знаю. А то, што печать настоящая, – клянусь животом.
Серьгагуля похабно улыбнулся жирными губами, плохо вытертыми.
– Эге-е… Животик ты себе наел! Говорят, царица думает рожать? А я дак думаю, што ты скорей родишь.
Бедняжка Доедала стал багроветь.
Тебе одной печати мало? – тихо спросил, поднимая упитанный сочный кулак. – Могу ещё одну печать… Тоже настоящая!
Ты смотри, обидчивый какой?!
А ты думал, я стану молчать? Врежу в ухо так, што и серьгу свою днем с огнём не найдешь!
Серьгагуля не скрывал удивления:
Молодец, Бедняжка. Отъелся, осмелел.
Ладно, чертов зубоскал. Иди, иди скорее, покуда Охра не пожаловал сюда.
А што ему здесь надо?
Почуял, видно, што-то, кривоглазый.
Надо прижать его где-нибудь в темном местечке и это… Надо вылечить его от косоглазия.
Говорил Серьгагуля по-доброму, даже сочувственно.
Бедняжка Доедала растерялся.
Как вылечить?
Просто! – в руке у Серьгагули вдруг возникло синеватое лезвие. – Р-раз! И в глаз!
А-а, так-то? Можно. А то уж я подумал, што ты всурьёз…
Да можно и всурьёз. Я видел одного заморыша со стеклянным глазом. Красиво, бляха-муха, от живого хрен отличишь. Толку, правда, мало от такой стекляшки. Зато красиво.
Серьгагуля спрятал нож. Бумагу с царскою печатью за пазухой проверил, покидая пыльный душный закуток.
2Старинный Кремль посажен мастерами на воздушные подушки: под землею тайные ходы пробиты на случай осады, пожара и во избежание другого лиха.
Сумрачно. Сухо. Покойно. Плесень кое-где цветёт, паутина выткалась широкими холстами, украшенными крылом стрекозы, изумрудиной усохшей крупной мухи, непонятно, как сюда забравшейся.
Горизонтальный ствол – неширокий, но длинный проход – раскидал направо и налево большие «ветки», ведущие в тупики, ловушки для непрошеных гостей. Каменистые чёрные «дупла» в этом стволе заняты мышиными гнездами – земными тварями. А кое-где приютилась летучая мышь – жуткий вампир-кровосос. Давненько люди здесь не проходили. Старая мышь запищала, предупреждая свой многочисленный выводок. Мышата сыпанули в темноту – затаились в норах.
Подземный ствол забронзовел, будто покрылся вдалеке сосновой корою, – свет затрепетал. Дымком запахло.
Серьгагуля Чернолис факел запалил. Торопливо шагал и всё время оглядывался. Пыль под ногами пыхала, раскручивая кольца… Фиолетово-красные капли с факела тянулись кровавою соплей – слетали, по-мышиному попискивая впотьмах…
Кое-где он пригибался, опасаясь как бы ни стукнуться. Серьга сверкала в ухе – блики брызгали на щеку. Шапка из чёрной лисы, надвинутая на брови, вдруг обретала размеры какой-то необъятной шапки Маномаха.
Иногда ходок неожиданно остановился, брезгливо смотрел под сапоги. Ему казалось – мышь раздавил.
Родившийся на островах Океании и какое-то время проживавший среди туземцев, Серьгагуля Чернолис привык терпеть невзгоды, ночевал, где придётся, и жрал, что подвернётся. Только мышей он не переваривал – в буквальном смысле слова и в переносном. У него привычка спать с полуоткрытым ртом. И вот однажды в детстве мышь залезла в рот…
– Тьфу, в рот бы ей! Хорошего кота сюда бы! – пробормотал он, снимая паутину со щеки. – А лучше бы голодную лису. Помышковала бы, курва, порадовалась.
Серьгагуля Чернолис торопился к Фартовой Бухте.
3Биография была у него очень пёстрая. Родившись в Туманном Заморье, он сиротой остался к трём годам. В шесть лет – уже геройский парень! – на корабле с командою заморышей попал он в Дурохамское Дуролевство, в безумно веселящийся город Дурохамск. Дураки и хамы очаровали его, научили на голове ходить, жить без креста, без совести. В Дурохамске судьба свела его с могучим парнем Коронатом Самозванцевым, который почему-то считал себя некоронованным царём Святогрустного Царства. Коронат говорил, что корону у него украли. «Кто? Царь Грустный Первый и он же последний!» – говорил Коронат, похохатывая и показывая свою жуткую пасть; у него там было не 33, а целых 66 зубов, которые сверкали таким сатанинским оскалом, как будто 666…
Однажды летом Коронат Самозванцев сколотил небольшую флотилию. Под парусами, на вёслах и бечевою прошли они чертову уйму многотрудных расстояний и причалили к светлым берегам Фартовой Бухты, где было немало фартовых ребят, но таких, как эти дурохамцы, здесь ещё никто не видывал.
Дурохамцы готовились к походу на Царь-Город. Изучали подземные ходы под Святогрустным Кремлём – многочисленные лабиринты выводили к Хрусталь-реке. Делали подкопы к пороховым погребам, чтобы в нужный момент захватить их, лишая охрану малейшей возможности сопротивляться. Все было обмозговано, на семь рядов отмерено – и можно было резать.
Кто их выдал? Неизвестно.
Провалились подкопы – и всё дело провалилось в тартарары. Короната Самозванцева с товарищами забили в колодки и отправили в черную глушь – на Столетние Стоны. И Серьгагуля должен был бы «стонать» с ними имеете, но, видать, не судьба. Коронат в ту пору снарядил его гонцом – нужно было срочно сгонять в Дурохамское Дуролевство. Серьгагуля на всех парусах смотался туда и обратно. И оказался у разбитого корыта.
Серьгагуля был крепкий, ладный парень, смазливый, только злой на весь мир, лишивший его родительской ласки и житейской бесхитростной сказки. Характер скандальный, занозистый. С какой стороны ни погладишь его – один чёрт, об занозу поранишься.
А после того, как случилась беда с его друганом Коронатом, посягавшим на Святогрустную корону, Серьгагуля вообще стал неуправляемый.
Он с юности считался первым драчуном в Дурохамске; весь город фонарями награждал: и захребетникам, и заморышам, и дурохамцам – всем доставалось.
А теперь вся Фартовая Бухта страдала от Серьгагули.
– Я добрый, – сознавался он. – Мне фонаря ни для кого не жалко.
И правда… Вечерочком, смотришь, кто-нибудь из заморышей причалил к берегам Фартовой Бухты. Вышел – твердь ощутил под ногами. Постоял, по сторонам поглядел. Куда идти? А вот она, Кудыкина гора. Точнее сказать, Пьяный Яр. Ноги сами собою в кабак приведут моряка и всякого другого мужика, это уж дело известное – такое устройство ног.
Чуть позднее, когда потемнеет совсем, кубарем слетит моряк с Пьяного Яра и на четвереньках пойдет по грязи. Фонарь под глазом тащит, дорогу до причала освещает и Серьгагулю благодарит:
– Вот какая щучья бухта! Утопнешь в грязи! Это ладно парень мне подарил фонарь, а то бы всё… Утоп на чужедальней стороне. На море-окияне уцелел, а тут захлебнулся бы, ей-богу захлебнулся бы, не окажись под глазом фонаря.
Попадало и самому Серьгагуле. И хорошо попадало. Другой давно бы кровью выхаркал нутро и навек успокоился бы где-нибудь в лопухах. А этот – нет. Живучий, как черт знает кто.
Однажды в потасовке темечко ему стесали топором. Сняли крышку с головы, так страшно сняли – мозги было видно.
Бледный, злой, он потребовал стакан спиртяги.
Тяпнул и занюхал рукавом. Завеселел.
А правда, что ли, видно?
Кого? – Рядом с ним крутился коновал, зашивать готовился.
Ну, мозги-то? Есть, говоришь?
Есть… Потерпи маленько.
Во-о-т! – Серьгагуля скрипел зубами. – Дурохамцев надо бы сюда позвать!
Сами управимся, – коновал плохо слушал его.
Дурохамцы, – продолжал Серьгагуля, – безмозлым считают меня. Вот щас посмотрели бы и убедились, что не правы.
Коновал затянул кое-как рану суровыми нитками. Лужу крови подтер под ногами.
Кожа нарастет, – сказал, – мозги прикроет.
Жалко, – Серьгагуля пошатал побитый зуб. – Значит, так никто и не увидит, что я не только фартовый парень, но я ишо и не безмозглый.
Погоди кочевряжиться, – остановил коновал. – Кожа нарастет, но если кто случайно пальцем ткнет или даже воробей на темя сядет, клюнет – хана фартовому.
Побледнев ещё сильнее, Серьгагуля встал. Покачнулся. И вдруг сграбастал коновала за грудки. Подтянул к себе. В глаза – глазами впился. И прошипел, как страшный змей:
– Если кому-нибудь скажешь об этой моей слабине…
Коновал ничуть не испугался; с кобылами и жеребцами воевать приходилось, а не то, что с каким-то фартовым.
– Да мне-то что? Я промолчу. Только весь кабак свидетель был, как тебе раскроили башку.
Серьгагуля отпустил его. Спиртяги хватанул ещё. Задумался. Как жить теперь?
А через несколько дней увидели его в чёрной лисьей шапке, под куполом которой (никто не знал) была зашита полукруглая железяка от рыцарского шлема.
С похмелья, а может с каких-то сумбурных своих побуждений – запёрся он в то утро в Божий храм, стоящий на возвышении Фартовой Бухты.
Ирод! Шапку-то сыми! – зашикала какая-то мрачная монашка. – Небось не в кабаке.
Я бы снял, бабуля, да не могу, – шепнул он.
Это почему?
Серьгагуля осторожно постучал по шапке.
А у меня под ней мыслишка преет, застудить боюсь.
Тьфу на тебя, сатана!
Серьгагуля расхохотался, оглашая своды храма и нахально глядя в глаза монашке. Она хотела пересилить взгляд охальника, но отвернулась. Было что-то в глазах у него бесовское; тёмный засаленный взгляд гадюкой ползал по человеку, в душу норовил скользнуть – в самое сердце ужалить.
4Подземный лабиринт закончился. Дышать стало легче. Серьгагуля осторожно выпрямился; инстинктивно голову берёг.
Выход замаячил впереди – полукружная гранитная арка, замкнутая сверху клиновидным «замковым» камнем. Свежо, приятно. Паутиновая сеть качает капельки дождя: ползают хрустальными жучками, на землю скачут.
Парень вышел, оглянулся. Замковый камень вырублен в виде звериной морды; хвостом свисает корешок травы, проросший среди других камней.
Чернолис оглянулся, чтоб запомнить место выхода наружу. Ещё не раз придётся туда-сюда побегать.
Спускаясь к берегу, Серьгагуля продолжал нести перед собою зажженный факел. Остановился и хохотнул над собою. Бросил факел в лужу под ногами. Вода зашипела, пополз голубоватый дымок. Смола, сопротивляясь, горела, расталкивая мутную жижу: пузыри вереницею отбегали от черно-лиловой головешки. Завиднелось грязное днище выкипающей лужи.
Испытывая сатанинское удовольствие, наступил сапогом – раздавил последний огонёк, плюнул, поправляя шапку, и пошёл, не забывая оглядываться на всякий случай: а вдруг погоня. Тут не зевай.
По гранитным кручам – скок да скок – Серьгагуля спустился к воде.
Широкое течение Хрусталь-реки шумело, заглушая пение птиц, только видно было, как дрозды и нарядные иволги «молча» раскрывают клювы, перепархивая с ветки на ветку – подальше от человека. Мокрые перья на птицах топорщились. Тёплый пар из-под кустов, из-под камней выпаривался рваными космами, будто зверь поднимался из потаенного логова.
На берегу должна быть лодка; Бедняжка Доедала клялся животом. Серьгагуля походил по берегу, отыскал три дерева, о которых говорил Доедала. Пошарашился вокруг да около. Наклонился и увидел что-то… Чёрную лису поправил на голове.
– Вот же курва! – воскликнул, добавляя пару непечатных выражений, какими богата Фартовая Бухта. – Что теперь? Как быть? Украли мою лодочку.
Жил Серьгагуля воровством и про других так думал.
Чернющие потоки дождевой воды, бушевавшие здесь недавно, слизнули лодку с берега: только обрывок верёвки остался – щучьим хвостом по воде колотился. Серьгагуля раздраженно дёрнул «щучий хвост». Остаток пеньки оторвался, поплыл, отброшенный.
Парень потоптался по песку, по гальке. Поглядел на небеса, на воду.
Богатые – не иначе краденые – часы достал из кармана. Покусанным ногтём защёлочку зацепил. Откинутая крышка выпустила музыку на волю, будто ласточка в руке защебетала…
Не дослушав приятной мелодии, Серьгагуля хлопнул крышкой. Помрачнел. Торопиться надо. Что же делать? Хоть бросайся в омут головой и самосплавом греби по реке, побелевшей от бешенства, – распёрло дождями, подтопило острова и песчаные релки, где стоят осинники, берёзы, полощут ветки в пробегающей волне.
Мрачнея, Серьгагуля резко поправил чёрную лису на голове.
«Ну и что, фартовый? Какая мыслишка у тебя под шапкой нынче преет? Пойду вниз по течению, там видно будет».
Он был действительно фартовый парень: судьба ему частенько улыбалась (хотя и зубы волчьи иногда показывала). Подфартило и на этот раз. Перевёрнутый плотик нашёлся на берегу – старый, шаткий, бросовый, перевитый красноталовыми прутьями, измочаленными на камнях перекатов. Но ничего, сойдет.
Серьгагуля оседлал его и айда понужать берёзовой палкой заместо весла.
Хрусталь-река хрустела битым хрусталем – осколки прозрачного льда выносило откуда-то из притоков. Осколки с перезвонами разбивались о плотик, сверкали в ногах плотогона. Зимним духом веяло от яростной реки, гам и тут вскипающей водоворотами, – пена рваным кружевом кружилась… И кружился несчастный плотик, готовый перевернуться… Кружилось небо… Береге берегом кружились, будто бы играли в догонялки, сливаясь вдруг в единую полоску, в заколдованный круг, из которого, кажется, невозможно вырваться живьем – окровавленный труп волны выкинут к берегу.
До тошноты измотало фартового… Чёрную лису чуть не сорвало с головы – прибрежная ветка ударила. А потом чуть голову корягой не снесло – за поворотом торчала деревянная лапа, точно специально поджидала.
Ближе к морю успокоилась Хрусталь-река – широко, вольготно разлеглась, покачивая плотик, словно колыбельку.
Бараньи Лбы сверкали закатным солнцем – большие лысые бугры из прочных горных пород, отполированных древними ледниками. Чайки отдыхали на Бараньих Лбах, пузатые бакланы, обожравшиеся рыбы.
Серьгагуля увидел «баранов» и заулыбался им, точно друзьям-товарищам, пришедшим встречать его.