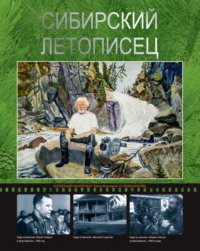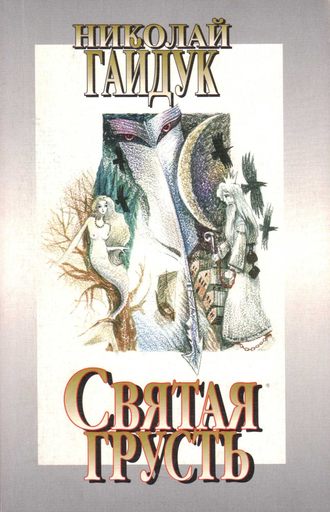
Полная версия
Святая Грусть
Соколинский видел крыши, озарённые всполохом на горизонте. Дорога в полях. На дороге – тележный след, напившийся дождя и пьяно сползающий с косогора. Цветок, зарезанный тележным обручем, лежал в грязи, глядел на небеса голубоватым немигающим оком, в котором дрожала слезинка-дождинка.
Звездочёт Звездомирович умел повелевать стихиями.
Развел руками, сделал несколько странных движений.
Соколик, ну хватит. Погремел, погромолвил и отдыхай. Ветер! И тебя это касается!
Знаю. – Ветер в тучах вздохнул, затихая. – Боишься, как бы шторма не было?
Царь Государьевич опять какого-то заморыша в гости поджидает.
– Да ладно был бы человек хороший, а то, говорят, настоящий палач приплывает.
– Топтар Обездаглаевич-Ибн-Обуглы.
– В том-то и дело! А может, мы его того… ибн об углы? Гром Громолвович ударит колотушкой и спрячет концы в воду.
– Нельзя. Царское слово – закон. Так что вы не хулиганьте, а то поссоримся.
Длинноногий Дождь остановился и показал человеку ослепительную улыбку – солнце в тучах блеснуло. Высокое белое облако над головою Дождя стало приподниматься как шляпа. Он поклонился повелителю стихии, подмигнул далеким всполохом, сунул руки в брюки и пошёл, беспечно посвистывая, перешагивая через деревья, через деревни, через города и горы, через границы.
Ветер потеплевший, подобревший – медленно вставал из дальних сумрачных оврагов, мерцающих рубинами чертополоха, изумрудной свежестью молодой крапивы. Ветер пошёл из промокшей далёкой дубравы, одурело пахнущей прелым листарём.
Подсыхающая первая пылинка поднялась на крыло – полетела с каменистой кручи.
Соколинский видел крылышки порхающей пылинки серые с белым подбоем. Видел ее серенькие глазки, растерянно смотревшие на мир, где так легко погрязнуть после дождя – великого потопа. Трава на пригорках трясла и покачивала хмельной головой со спутанными волосами Лопухи, тысячелистник, хвощ полевой, лебеда – вставали, кряхтя и поскрипывая зелеными сапожками, утопающими в грязи.
4Ребятишки на пригорке окружили Устю Оглашенного. Сидели на подсыхающих бревнах. Слушали – муха могла залететь в распахнутый ротик.
Оглашенный рассказывал очередную историю. Сегодня о том, как посчастливилось ему побывать в гостях у Грома Громолвовича.
Вот, пожалуйста, он просил передать вам игрушки.
Ух ты!
А что это?
Погремушки-громовушки называются. Только вы, пострелята, пока не гремите. Я гармошку спою, мы возьмем… Тьфу! Совсем, старый хрыч, заболтался. Я гармошку возьму, мы споем.
Ребятня засмеялась, помогая Усте Оглашенному ремешки на плечах закрепить. Стали песню разучивать:
Ходит, ходит по землеГром, Гром!Ищет, ищет он себеДом, дом…– А почему у него дома нет?
Юродивый задумался. Поглядел на свой дырявый локоть.
Почему, говоришь? Папку с мамкой не слушал. Расшалился как-то весной, загремел, как черт в порожней ступе. Ну и развалил свой дом… Раскатал по бревнышку. Забодай комар его!
А папка с мамкой выгнали его?
Откуда выгонять-то? Дом развалился.
А как дальше было?
Гром Громолвович в тайгу пошёл. Молния рубила там деревья – помогала ему бревна готовить для нового лома. А тут спиртоносы проходят тайгой. Гром возьми да и выпей спиртяшки. Ну а пьяный – известное дело – дурак. Наломал он дров тогда в тайге, ох наломал… Так что вы, ребятки, вина не пейте, а то будете без дома не хуже Грома. Ну, давайте дальше песенку разучивать… А если нет, могу вам показать пылинку…
То ли мы не видели её?
Кто видел?
Все видели!
Ты за всех не отвечай. Ты видел? Ну, скажи, сколько лапок у нее? Сколько крылышек?
Ничего там нету-ка.
Посмотрим. – Устя Оглашенный гармонику поставил на пенёк. Наклонился и поймал пылинку, поднявшуюся на крыло. Стеклышко пузатое какое-то из кармана достал. Ребятишки поглядели – ахнули.
Глазёнки видно! Братцы! Глазёнки у нее!
Крылышки! Во, ё-моё!
А я что говорил? Ну, хватит ее мучить, пускай она летит своей дорогой. А вы запомните, мои хорошие: любите свою землю, берегите каждую пылинку, каждую росинку – у них у всех душа, не обижайте!
Оглашенный говорил и говорил – не переслушаешь. Целыми днями, целыми неделями Устя бродит по горам и долам. Намолчится в одиночестве, соскучится по людям – особенно по ребятишкам – и тогда его не остановишь. Краснобаем становится – диву даешься.
5Горячим дыханием ветра осушило проселки, тесовые крыши соседних селений. Солома тихонько запела на крышах, причесалась, привела себя в порядок. Деревья на околице поправили юбки, переворошенные грозой. Пастуший костерок в лугах – промокший до смертушки, чахоточно чадящий из последних сил – заискрился вдруг, запламенел, вырастая с каждою минутой. Бурая глина закурилась на береговых обрывах, наискосок распиленных дождевыми потоками. В глубине – под корягами – сазаны повеселели, вороша, как вёслами, тяжёлое течение Хрусталь-реки. Золотыми слитками, красноглиняными комками сазаны вспухали на поверхности, бурлили воду, светлою верёвочкой закручивали воздух и утягивали на дно – пузырьки выскакивали, с тихим звоном лопались.
Солнце припекало, протыкая воду, землю… И скоро земля задышала, как брага, с которой сняли тугую крышку… Пир на весь мир начинался на землях Святогрустного Царства – ещё один весенний добрый день, подаренный Господом Богом.
Эх, побольше бы, ребята, нам таких деньков!
Однако не печалься о том, чего нету – лучше радуйся тому, что есть.
Глава десятая. Кучерявая лысина
1Царский кучер сунул руку в карман, пригоршню отборного овса отправил в рот – и чуть не подавился, поворачиваясь: из-за угла показалась телега с лошадью, запряженной задом наперед. В телеге сидел Страшутка, ладонь с кусочком сахару держал перед лошадиной мордой (ладонь была смазана волчьим жиром). Лошадь пугливо пятилась – задним ходом тащила телегу. Мужики за углом похохатывали.
Тр-р, стоять, приехали! – воскликнул Старый Шут, отнимая ладошку от лошадиного храпа. – Здорово, Кучерявый. Мы тебя обыскались.
Кто тебе лошадь так запряг, Страшутка?
Сама запряглась… А не веришь, дак спросил бы у неё.
За углом опять захохотали. Крепкими зубами дробя овёс, Фалалей подошёл, скинул хомут, натянутый на лошадиный зад.
Я с тобою разберусь когда-нибудь! – пригрозил.
Когда-нибудь – это ладно. А с тобою сейчас разобраться хотят, – ехидно заметил Страшутка и, помолчав, добавил: – Одноглазый тебя ищет.
Какой «одноглазый»?
Охраныч… А какой же ещё? – Страшутка подкинул кусочек сахару и ловко поймал разинутым ртом.
А чего ему? Одноглазому.
– Не знаю. Иди, да сам спроси.
Фалалей подумал, глядя в землю.
– Разбежался, ага. Больно мне нужно. Я царский тарантас готовлю к путешествию, некогда мне бегать за Одноглазыми.
– Ну, как хочешь. Моё дело – передать приказ.
Фалалей поперхнулся от возмущения.
– Ох, ты, колесо моё квадратное! – он проглотил разжёванный овёс. – Царь для меня приказ. Только царь. И точно. Иди отсюда, не воняй! Всех лошадей перепугаешь волчьим жиром. Знаю я твои фокусы. Возьму вон оглоблю, пошутишь тогда.
Страшутка взял лежащее неподалеку тележное колесо и покатил его перед собою, оглядываясь и дурашливо прикрикивая:
– Ой, как страшно! Мы поехали, поехали!
2Царского кучера звать Фалалеем, но чаще обзывают Кучерявым Кучером и даже костяными гребешками одаривают иногда, хотя он лысый – днем с огнём не сыщешь волосинки на голове. В детстве, правда, был кучерявый, да такой кучерявый – одно загляденье. Смолистые плотные волосы напоминали чёрный каракуль – араби, – из далёкой страны Холхиды привозимый в подарок царю.
И дед, и отец Фалалея кучеровали на этой конюшне. Подросток Фалька лошадей любил самозабвенно; всегда карманы полные сахаром, овсом да сухарями. И лошади – они ведь как большие дети – сразу поняли душу его. Лошади всегда к нему с улыбкой на губах, с весёлым ржанием…
И только однажды Черт попутал отрока. Чертом звали жеребца-тяжеловеса, звероватого, косматого, не нюхавшего узды, не знающего седла. Фалька взялся укрощать зверюгу. Так получилось, девка рядом оказалась, героем перед нею захотелось выглядеть. Однако Чёрт не понял его благих намерений: заплясал под ним, раздухарился, опрокинул наземь – чуть не убил копытищем. Лягнул – достал по кумполу. А подкова у Чёрта была – серебра с полпудика приколотили на царской кузнице. Хорошо, что скользом прилетело по башке, а то бы хана Фалалею.
Отлежался он. Повязку сняли. И вот здесь-то началось такое диво – не всякий поверит. Однажды в полночь мать просыпается:
– Фалька! Ты, что ли, свечку палишь под одеялом?
А парень спит, похрапывает.
– Отец! – переполошилась мать. – Проснись!
– Кого тебе?
Горим!
О Господи… Дак чо же ты лежишь?
Тихо, не кричи, разбудишь Фальку.
Поднялись. Подошли на цыпочках.
Прям чудеса в решете! – отец глаза таращил. – Святой он, что ли, стал? Сияет, бляха-муха, как ангелочек!
Может, и святой. Не лайся.
Дура ты старая! – отец отмахнулся, отходя от кровати сына. – Это ему подковина в башку влетела. Серебряный след пропечатался.
Да ну? А разве так бывает?
Как видишь, Марфа.
Вижу. Полумесяцем горит. Красиво.
– И ты иди, подставь башку, пущай лягнёт. Тоже красиво будет. Только смотри – прибьет Чертяка! – Отец хохотнул. – Разбудила из-за ерунды, теперь до утра куковать.
С полгода, если не больше, болела рана – огнём горела. Чёрный «каракуль» сопрел и помаленьку высыпался под гребешком, под ветром.
И расплылась на голове лысина – серебристым озерком. Лысина эта излучала странное сияние. Страшутка не преминул сочинить каламбур:
– От лысины твоей исходит лысияние! Теперь тебе не надо фонарь в дорогу брать!
Характер у Фалалея покладистый. Он усмехался в ответ. И улыбался, когда подначивали по поводу «подкованных мозгов», которые век не износятся. И по поводу «кучерявого кучера» не сердился, а с годами и вовсе привык – принял за настоящее имя.
3Начальник дворцовой охраны, потрясая пиками усов, шагал на конюшенный двор.
Запахло отсыревшим сеном, упряжью и конскими яблоками; одно из них дымилось на пути – воробьи верещали, выклевывали овсяные зернышки из яблока.
Дождинка, проткнутая стеблем цветка, подрагивала с краю сеновальной крыши – упала за воротник, заставляя Охру сердито ощетинить усы. Он посмотрел наверх, осклабился. На землю посмотрел, останавливаясь.
Отчетливые оттиски подков, налитые влагой, позеленелой от раздавленных травинок. Возле кормушки – оранжевая россыпь отборного овса, разбухшего, расколовшегося посередине, готового корешки под землю запустить; воробьи почему-то не видели этот овёс. В переполненной бадье синеет опрокинутое небо с белесоватым огарком месяца, похожего на тележный обруч, который кузнецы отковали – сунули в воду закаливать.
За углом – перестук молотков. Будто кто-то пляшет в железных башмаках.
Удары смолкли. Голоса послышались.
Готово. Проверь, как оно побежит? Прямо, нет?
А чего ему криво бежать? Не с похмелья.
Выходя из-за угла, Охран Охранович отпрянул – колесо по двору побежало вприпрыжку. Новенький обруч сверкал синеватою лентой – наворачивал травинки на себя, мокрый пух.
Под навесом темнел тарантас – раскорячил новые светлые оглобли. Колесо ударилось в оглоблю и подпрыгнуло, оставляя на берёзе неглубокий шрам. И вдруг попало втулкой на пустую ось, ждущую именно этой обновы.
«Ловкачи, паразиты!» – с хорошей завистью подумал Охран Охранович. Мастеровые люди нравились ему – хоть кузнецы, хоть плотники, хоть кто другой, умеющий делать свое дело легко, играючи.
Он свернул на звук металла. Остановился. Два кузнеца-кудесника месили молотками железное белое тесто. Подкову стряпать готовились.
Мужики, здорово!
Здорово, коль не шутишь.
Где ваш Кудрявый?
Ась? Давай погромче…
Где Фалалей, говорю? Да подождите вы греметь! Змеи гремучие!
Кузнецы захохотали – с весёлой рабочей злинкой. Зубы крепко стиснуты. Лица горячи. Глаза блестят, лишь изредка отрываясь от раскалённой поковки.
Тот, что помоложе, выдохнул:
За конюшней гдесь-то!
Кудри чешет! – подхватил тот, что старше, мимоходом сплевывая под ноги себе и не переставая молотом выписывать серебристое полукружье – от наковальни до плеча и обратно. Искры летели овсом от подковы, шипели на сырой земле и «прорастали» кверху стебельками сизого дыма.
Шевельни копытом, Охра! – рявкнул молодой кузнец.
Я шевельну. Чего тебе?
Сапог прогорит! Посмотри! – молодой хохотнул.
Ох, так его… Тут с вами босяком заделаешься! – Охран Охранович постучал подошвой по земле. – Только вчерась надел! Новьё!.. Змеи гремучие. Сказал же, подождите, так нет…
Готовая подкова полетела в кадушку. Вода забурлила ключом, пузырями пошла, синеватым дымочком подёрнулась.
Кузнецы постояли, вытирая потные загривки, похохотали, наблюдая за Охрой; сбивая искры с обуви, он гарцевал жеребцом.
«Тигровый глаз» охранника из-под брови кусанул одного и другого. Но кузнецы не обращали внимания, занятые срочною и важною работой – рысаков готовили в дорогу.
Вы у меня смотрите! Город спалите!
Новый скуём, не боись!
Я скую тебе, чёрт. Зубоскалишь…
Заплакал бы, да слёзонька спеклась около горна.
Беспричинная весёлость красномордых кузнецов стала раздражать его, в последнее время издерганного службой. Он хотел полаяться с ними от души, но железо разве перегавкаешь. Снова загремели, змеи гремучие. Ни минуты продыху – ни себе, ни людям.
Охра сплюнул, отворачиваясь. Поглядел на прожжённый сапог и сердито задёргал усами.
– Вот змеи! – вздохнул. – Ладно, хоть нога цела осталась. Можно было бы и косточку пробить такой раскалённой дробиной.
4Фалалея он искал по царскому срочному приказу. Но кузнецы ему всю голову забили звонами. Постоял среди конюшенной ограды, с удивлением подумал: «А зачем я здесь?»
Увидел ступицу, измазанную дёгтем. Присел на корточки. Принюхиваясь, шумно потянул ноздрями.
За спиною – солнце. Тень упала на ступицу.
– Охра? – раздался насмешливый голос. – Ты чего здесь вынюхиваешь?
«Тигровый глаз» прищурился, присматриваясь, – к свежему дёгтю на втулке прилип. О чём-то глубоко задумавшись, начальник охраны поднялся, поцарапал шрам на подбородке.
Здорово, Кучерявый. Тебя ищу.
А что такое?
Да так, соскучился. Тебе не говорили?
– Кто-то что-то говорил, но промолчал про то, что ты соскучился. А то бы я задрал штаны и мигом прилетел бы. Ну, здорово!
Крепкие ладони встретились в рукопожатии. Захрустели косточки. Всегда они вот так-то – силой меряются при удобном случае. Большие дядьки вроде, а со стороны посмотришь – как пацаны.
Рука у Фалалея лошадиной силы. Тёмная, растресканная работой. Между большим и указательным пальцами белеет рваная полоска – вожжиной спалило. Под крутояром кони вразнос однажды кинулись. Рукою успел ухватиться за обрывок упряжи – полвёрсты на брюхе бороздил. Спас царя от неминучей гибели. Вошёл после этого в доверие к царю; тот полюбил отчаянного кучера; вот почему Фалалей иногда вел себя дерзко с придворными.
– Как спал да ночевал, Кудрявый?
– Хорошо, спасибочки, – Фалалей машинально сунул руку в карман, кинул щепотку овса на язык. – А ты какой-то, братец… Как не выспатый.
Оглядываясь, Охран Охранович перебил:
Где хранится дёготь?
Где положено, там и хранится, – кучер поддёрнул портки, подпоясанные подпругой. – А тебе-то что? – спросил, аппетитно хрустя сухими овсинами.
И всё-таки? – охранник надавил на басы, демонстративно поправляя пистоль.
Фалалей усмехнулся. Поцарапал шрам на руке. Неторопливо дожевал овёс и проглотил.
– Ох ты, колесо мое квадратное!.. Ну, пойдём-ка, покажу бочку с дёгтем, коль такая надобность.
Воробей слетел с дороги – помешали купаться. На жердину присел, отряхнулся, поднимая перья веером: капельки брызнули в лужу. В клювике у воробья какое-то зернышко. Проглотил и чирикнул, довольный.
Они прошли по деревянному настилу в тёмных печатях от подков. Свернули под крышу. Здесь тихо. Пахнет сухою пылью и мышами. Старые дуги виднеются, ржавые полозья. Дыры, заткнутые пучками соломенного солнца, – лучи ложатся наискосок, – пятнают пыль, разбитые колеса.
Из полумрака выплывают конские глаза. Большие, диковатые. Белая звезда распластана по чёрному лбу. Конь фыркает – дыхание вкусно пахнет жёваными травами.
Осторожно, это Ретивый! – предупредил Фалалей. – Только зазеваешься, он тут как туг. Или подковой поцелует между глаз, или это… Смотри, как бы усы не отжевал.
Ты лучше о кудрях своих волнуйся. Где бочка?
Там, – Фалалей опять отправил пригоршню овса в распахнутый рот.
Где – там? Да хватит жрать! Оставь немного жеребцам! Стоят голодные, потом лягаются.
А чего ты рассердился? – Фалалей потыкал пальцем в тёмный угол. – Вот бочка. Что дальше?
«Тигровый глаз» метнулся в темноту, пошарил справа, слева. Усы тревожно вздыбились.
Что-то не видать…
Смотри в оба, – съехидничал Фалалей. – Она прикрыта чёрной парусиной.
– Вот парусина твоя. А где бочка? Иди, Кудрявый, покажи. Быстрее.
– Ох ты, колесо моё квадратное! – раздался тихий изумлённый свист. Фалалей заволновался. Шрам на руке поцарапал. Выплюнул под ноги недоеденный овёс и побежал к другому тёмному углу. Зазвенел какими-то железками. Наступил на грабли – получил по лбу. Ухнул задом в пыль и ошалело замер, выпучив глаза.
Охран Охранович злорадно фыркнул, сдувая паутину с напружиненных усов. Он весь теперь был собран в тугой комок. Давно хотел «хомут надеть» на Кучерявого Кучера. Больно задаётся, лысый хрен. Ходит в любимчиках у царя и земли не чует под собой.
Ну? Где твой дёготь? Умыкнули?
На хлеб намазали! – сердито выпалил кучер, поднимаясь и отряхивая зад.
Кто? Когда намазал? Живо сознавайся.
Господь с тобою, Охра. Я сам только заметил, что бочки нету.
Значит, плохо следишь за хозяйством! – ухмыляясь, начальник охраны поправил пистоль за поясом.
Как – «плохо»? Вчера ещё бочка была. Что же мне? Спать в обнимку с нею, сторожить?
Выходит, надо было так и делать.
Ты царскую печатку вон как сторожил! И то украли!
От злости и удивления «тигровый глаз» чуть не выпрыгнул из-под брови. Лицо побледнело. Усы затряслись.
– А ты откуда знаешь?
Да про твою печать уже весь город…
Тихо, дурак! Даже царю пока что неизвестно!
Не дурачь, не дурнее тебя.
– Прости, Фалалейчик, прости, – Охран Охранович помог ему отряхнуться, поглаживая по спине и переходя на мягкий тон заискивания. – Мы найдём печатку. Обязательно. Ты не проболтайся только… Ладно? Я человек суровый, но справедливый… Я тебя Христом Богом прошу… Мы найдём!
– Дело ваше. Мне бы дёготь найти. Какая сатана его слизнула?! – Фалалей фуражку приподнял в недоумении. Лысина заполыхала странным серебристым лысиянием, точно месяц во мраке прорезался над головою кучера. Паутина сверху завиднелась кружевами. Воробьиные гнезда. Пушинка белела в запылённом паутинном кружеве.
«Тигровый глаз» прижмурился.
– Фу ты, чёрт, напугал. Я давно уж не видел твоего лысияния. – Охранник попятился, перекрестился, а потом как будто озарило этим сказочным огнём: самое главное вспомнил. – С дёгтем опосля разберемся. Царь тебя хочет с пакетом отправить. Скорее, он ждёт!
С пакетом? Куда?
Под конские уда! Не задавай дурацкие вопросы. Будет царь мне докладывать, что да куда.
А сразу почему не сказал?
– Забыл. С этим чёртовым дёгтем…
Фалалей поспешно скинул грязную одежду, пропахшую человеческим и лошадиным потом. Кряхтя, залез в парчовые штаны. Лапти древесной коры поменял на башмаки из доброго турецкого сафьяна.
Розовая новая рубаха, расшитая серебрецом и золотыми нитками по вороту, по краям рукавов, преобразила кучера. Лошади смотрели и сердито фыркали, не узнавая, принюхиваясь к «новенькому». Охран Охранович тоже как будто рассердился, покачивая головой: был приятно удивлен.
– Гренадёр! Гусар!.. Гусак!.. Ха-ха…
Пропустив мимо уха «тупую остроту», покидая конюшенный двор, Фалалей сполоснул лицо и руки в прохладной лошадиной бадье, где голубело опрокинутое небо с одиноким облачком. «Кучерявую» голову причесал по привычке. Спохватился, плюнул:
– Паразиты! Снова гребешок подсунули в карман!
«Тигровый глаз» лучился ехидненьким весельем.
– Твоя работа? – буркнул Фалалей.
Ага, ночь не спал, обдумывал, как тебе ловчее гребешок подсунуть.
На, забери, тебе нужнее. Усы причесывать.
Да мы уж как-нибудь, благодарствуем.
– Ну, как хочешь. Гривы конские буду расчёсывать.
Фалалей поправил кепку.
Вышли за ворота. Охран Охранович приотстал – на несколько секунд залюбовался Кучерявым Кучером. Глядел с нескрываемой завистью на щеголеватого беззаботного парня. (А что ему: знай себе, дёргай вожжи). Потом сказал, вздыхая и прищуривая «тигровый глаз»:
Кудрявый, тебя хоть жени!
Ну да, – задумчиво ответил Фалалей, глядя в сторону царских палат.
Хоть жени, – язвительно продолжил охранник, – вон на той кобыле!
Что ты сказал?
– Царь, говорю, дожидается. Шевелись! – Усы охранника тряслись от смеха, «тигровый глаз» купался в весёленькой слезе.
Фалалей серьёзен был. Шагая, под ноги смотрел. Турецкий сафьян, мягко и нежно обнимая ноги, скрадывал шаги на мраморных ступеньках дворца.
5Не изменяя распорядку своего рабочего дня, царь сидел в роскошном рабочем кабинете. Бумаги подписывал. Время от времени рука его тянулась к дорогой шкатулке – малахит с травяными и листвяжными разводьями. Крышка открывалась. Царь вынимал печать с гербом и двуглавым орлом – осторожно припечатывал к бумаге.
Начальник дворцовой охраны первым вошёл в кабинет. Царский кучер за ним…
Постояли у порога, стараясь не дышать – не мешать государеву делу. Но когда увидели печать в руке царя… Фалалей-то ещё ничего – только плечами пожал в недоумении. А «тигровый глаз» едва не лопнул: так набычился, так увеличился.
– Печать?! На месте?! – едва не закричал Охран Охранович.
Светло-соломенные брови государя сердито сбежались над переносицей. Неохотно отрывая глаза от бумаги, он задумчиво спросил:
– А где же быть ей? Коль не на месте? – внимательные умные глаза государя вдруг наполнились лукавыми искорками, и, подражая голосу Терентия, своего слуги, он проворчал: – Работаешь, работаешь не подкладая рук…
Глава одиннадцатая. Высокая работа седого звездочёта
1Певучее сердечко петуха томилось тревожным предчувствием. Горло странно зуделось последнее время, точно топор почуяло. И ни пить, и ни есть не хотелось ему. И за подружками-несушками не хотелось бегать. И солнце на восходе – на пороге побудки – уже не радовало так, как прежде.
И оказалось – это не напрасно.
Сегодня ночью кто-то заглянул в царский курятник.
Будимир насторожился, кококнул, слетая с насеста.
– Тихо, тихо, дружок, успокойся, – промолвил чей-то голос, фальшиво-ласковый.
В темноте шуршал мешок.
Петуха накрыли. Он отчаянно сопротивлялся, когтями раздирая мешковину, царапая чьи-то вонючие лапы. Но что он мог поделать в тесноте мешка? Его сдавили – начали душить. Ещё минута, если не меньше – и всё, и хана бы ему… Но что-то помешало вертопрахам…
Бросай! Идут! – раздался шепот.
Кто? Где?
Охрана! Близко!
Подожди, сверну башку ему…
Бросай, покуда не свернули нам самим!
Ночные вертопрахи бесшумно скрылись. И тут же в Курятник заглянул один из гренадёров из команды охраны.
– Да нет, – сказал он кому-то. – Тут всё тихо.
– Значит, показалось. Ну, пошли, вздремнём.
Полузадохнувшийся петух какое-то время лежал, раскинув крылья, на мраморном полу Курятника – рядом валялся брошенный скомканный мешок. Полуоткрытым глазом Будимир видел синеющее оконце. Понимал, что надо встать – скоро заря. Но слабость, противная дрожь одолели его.
«Опоздаю, – толскливо думал он. – Вот будет позору!»
Солнце брызнуло кровью по небу…
Будимир поднялся. Привёл себя в порядок и поспешил на работу – минута в минуту. Горло у него после ночного происшествия немного побаливало. И всё же он пропел зарю. Провел вполне достойно. Хотя, если честно сказать, пропел без того горячего азарта, каким отличался всегда. Но Звездочёт Звездомирович не заметил этого, увлечёнными своими делами. И потому петух получил в награду очередное жемчужное зёрнышко, всегда вызывавшее радость в душе. Всегда, но только не сегодня.
– Что-то случилось? – спросил Звездочёт Звездомирович, глядя в потускневшие глаза певца.
Будимир хотел рассказать Соколинскому о ночном происшествии, но не смог, не захотел; почему-то стыдно ему сделалось. Ночные страхи показались пустяковыми, точно приснились.
– Гарем большой, работы много, вот и не выспался, – сказал он, покидая Утреннюю Башню.