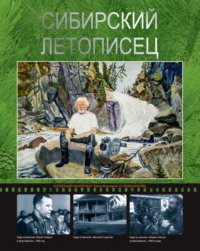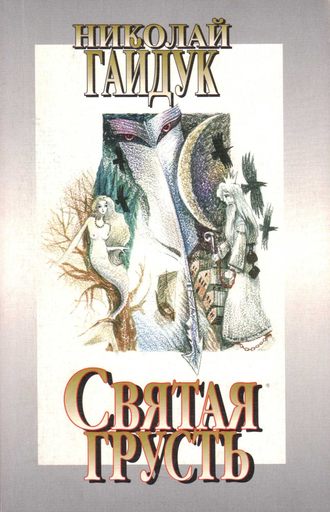
Полная версия
Святая Грусть
Теперь уже близко. Бараньи Лбы – граница пресной воды и солёной. Уже пахнет морем – йодистый, ноздри щекочущих дух. Уже завиднелся маяк на окраине серого мола.
5В кабаке – непривычно тихо, малолюдно. И потому кабатчик запропал куда-то – не торопится выйти.
Сова! – разъярённо рявкнул посетитель. – Ты где? Заснул?
Я здесь.
Лети сюда! Скорее! – Серьгагуля выругался чёрным дурохамским словом. – Выпить дай, чего стоишь, глазами хлопаешь?
Замёрз?
Не говори… Как с-собака п-последняя!
Савелий Дурнилович засуетился. Притащил и поставил перед товарищем «Кубок большого горла́». Присел на краешек дубовой табуретки. Выжидающе смотрел на Чернолиса.
– Какие новости? – осторожно поинтересовался кабатчик после того, как приятель выпил.
Кулаком вытирая жёсткие тонкие губы, Серьгагуля бросил короткий взгляд в окно – серьга сверкнула в ухе.
Как стемнеет – пойдем.
Далеко?
На маяк.
Кабатчик возбужденно засопел, обрадовался:
Будем брать на абордаж?!
Никакого абордажу. Всё должно быть тихо.
Ясное дело. Песни петь не будем. Ещё налить?
Давай. Чуть не утоп в реке, спешил. Да принеси чего-нибудь пожрать. Не скромничай.
Глава четырнадцатая. Горилампушка
1Старый смотритель маяка – Егор Евлампиевич. Для краткости – Горилампиевич, Горилампушка. Добродушный святогрустный человек, большой ребенок, всю свою жизнь «играющий с огнём». Горилампушка без ума, без памяти влюблен в маяк. Влюблён давно и, может быть, даже сильнее, чем в свою жену, бывшую когда-то первой красавицей. (Вот почему она и ревнует его к маяку; особенно когда он ночью туда уходит).
У Горилампушки много друзей среди моряков, капитанов. Есть даже такие, кто искренне считает Горилампия своим крёстным отцом, родителем-спасителем: не раз и не два бессонное око берегового огня выручало мореплавателей, застигнутых штормом. В прошлое лето, к примеру, явился к нему один такой заморыш – рассыпался, рассыпался в благодарностях, а потом подарил изумруд, крупный, отшлифованный. Изумруд считается камнем капитанов, камнем, способным спасти от морской губительной стихии. У капитана ничего дороже не было. Отдал Горилампию, расцеловал старика и сказал, что кроме всего прочего у этого камня есть ещё и такая волшебная сила: когда на изумруд посмотрят злые духи, джинны – ослепнут; глаза у них вытекут. Горилампушка долго не принимал подарок. «Больно дорогой да больно страшный камень, – признался он. – Я ведь и сам бываю иногда злым духом. Осерчаю, бывало, на старуху свою, злой хожу, не дай Бог, какой злой. И что же это будет, ежли я на энтот камень посмотрю – глаза у меня вытекуть?» Капитан-заморыш смеялся, уговаривал принять подарок, поскольку от чистого сердца дарил.
Горилампий спрятал камень от греха подальше, пока глаза не вытекли.
2Проснулся Горилампушка за полночь. Тихо было в доме, тихо и тревожно; три дня штормило за окном, а тут – как будто высохла вся бухта.
Мышь под полом пискнула, пробегая по своим делам. Кот на печке приподнялся, мурлыкая. Белая кошачья мордочка во мгле замаячила. Коту поспать хотелось, но он почуял беспокойство Горилампушки; на лавку мягко спрыгнул, потом на пол; потянулся возле специальной проруби в доске – неохотно полез в подполье, сердито фырча на проклятую мышь.
Сухим тревожным взглядом Горилампушка проводил кота. Послушал муху, спросонья забрюзжавшую в углу окна. Приподнялся на локте. Кровь зашумела, приливая к голове и наполняя уши перезвонами. Сердце больно подтолкнуло в бок – вставай, мол, тетеря, проспишь. Но Горилампий не мог ещё понять причины своей тревоги.
Всё в комнате было спокойно. И за окном спокойно.
Мягкие отблески маяка ложились на окошко, половицы подкрашивали у порога. Икона святого Николая Чудотворца поблескивала дорогим окладом…
И вдруг… за стеною почудилось что-то. Вроде как шаги… И вроде шепотки… И на верхотуре маяка пламя вдруг ходуном заходило, рождая необычные уродливые тени, взметнувшиеся до неба… Потом как будто заскрипел засов, ломаясь, и чуть звякнул, падая. Кто-то забрался в каменную башню маяка.
И путеводное пламя погасло.
Горилампушка всем телом вздрогнул в темноте. Нужно было вставать, даже не вставать, а вскакивать – бегом бежать. А он вдруг ослабел от страха, вспотел в одно мгновенье и, едва-едва привстав на кровати, снова опустился мокрым затылком на подушку. Рука его, словно бы сведённая судорогой, белый край одеяла свирепо скомкала и отшвырнула, оголяя старуху, лежащую рядом.
Она спросонья пробормотала:
– Ты чего подхватился?
Он прикрыл одеялом её обветшалую грудь.
– Спи. Я огонь проверю.
Ощущая под коленками противное подрагивание, Горилампушка в сени направился. Там прохладно. Тихо. Голубоватым светом сочилась вверху небольшая клиновидная щель – старые доски рассохлись. Клиновидная полоска света лежала на полу в сенях, обломившись на пороге и до половины перечеркивая дощатую дверь.
Горилампий глянул на ружьецо, висящее в углу. Тревога щемила под сердцем, щемила сильней, сильней. Ружьецо висело без патронов, но искать их – в избу возвращаться – не хотелось. И тут он вспомнил про изумруд, подарок капитана: злые духи посмотрят на камень – ослепнут; глаза у них вытекут.
Изумруд находился на дне сундука, стоящего в дальнем закутке сеней. Горилампушка вывалил под ноги целую гору каких-то старых разноцветных тряпок – платки, носки, понёвы, сарафаны, пояски. Запахло тряпичной пылью. В полумраке запорхала моль, стараясь вылететь в голубоватую клиновидную щель. Горилампушка едва не чихнул. Глаза вдруг заслезились от чего-то едкого и неприятного. Он заругался шепотом:
– Твою мать-то, бабку эту! У самого глаза вытекут, пока сыщешь каменюку энту! Что за бабка? Тряпки сжечь пора, так нет… Старьё собрала!
Не отыскав изумруда, Горилампушка взял ружьё – ктоме него никто ведь и не знает, что оно без патронов. Выйдя на крылечко, он огляделся, прислушиваясь к большому оглушающему покою. Следом за ним – в раскрытые двери – брызнули две малые моли, закружились, точно в водоворот попали.
Над Фартовою Бухтой пробегали остатки облачности. Луна горела в стороне – высоко, равнодушно. Бараньи Лбы сверкали на своём привычном месте, похожие на маленькие луны, рассыпанные по берегу. На дальнем дворе забрехала собака: по распадку – эхом – прокатился многократный собачий брёх. И снова тишина, только под берегом волны облизывались.
На маяке что-то скрипнуло – коротко, жалобно. Приглушенный голос раздался… и другой. Приподнимая ружьё, позабыв, что оно холостое, Горилампий крадучись приблизился к раскрытой двери маяка. Луна светила сзади – длинная тень старика осторожно заползла в дверной квадрат. «Пакостники, – думал он. – Хозяйничают! Голову снесу!»
Под ногами хрустнула щепочка от сломанной двери. Горилампий сморщился, как будто не на щепку наступил на гвоздь. Ещё два шага сделал. Притаился возле косяка.
– Кто зде… – начал громко, грозно.
Тупой удар в затылок заставил замолчать. Старик распрямился от боли. В глазах потемнело. Он посмотрел незрячими глазами куда-то в угол. Выронил ружьё, обмяк, но не упал.
О, старый хрен, тяжёлый, – заговорили над ним.
К воде тащить – надсадисся.
Зачем к воде? Здесь положи.
Нет, в бухту надо скинуть.
Положи, сказал!
Не дело это, Чернолис… Прочухается он, опять маяк запалит.
– Не запалит. Я раскурочил так, что не бесполезно.
Серьгагуля Чернолис почему-то пожалел смотрителя.
Даже сам себе немного удивился – почему? В эту бухту он впервые приплыл на спасительный свет – свет Горилампушки. И потом приплывал много раз. Кроме того, было время, когда Чернолис находил под крышею смотрителя добрый ужин и сладкий ночлег.
А ружьишко-то – пугало. Без заряда ружьё, – сказал товарищ, двумя руками легко сгибая ствол в железную дугу. – Так ему лучше будет стрелять… из-за угла. Ну, всё? Пойдём, что ль?
Нет, чаевничать будем, Сова!.. Ну, шагай, чего глазами хлопаешь?! – Серьгагулю разозлила собственная жалость. Мало того, что жалко Горилампушку, – ружьё старика стало жалко. А это уж совсем – гнилая слизь какая-то в душе.
Серьгагуля пнул ружьё. Пошли от маяка, спустились к берегу. Вода сияла, аж глаза слезились. Поправляя чёрную лису на голове, Серьгагуля заворчал:
– Луна, зараза, вылупилась, чёрт знает откуда! Шли сюда – глаз коли, а теперь, точно днём. Да, Сова? Что, молчишь? Я почему старика приберёг? У меня кой-какая мыслишка взопрела под шапкой.
Говорил он уверенно, твёрдо, только никакой мыслишки не было. Чернолис выкручивался. Неудобно как-то перед товарищем. Да и противненько перед собой, особенно теперь, когда маяк остался далеко за спиной. И чего пожалел старика? Вот уж никогда бы не подумал, что есть в душе подобная бодяга – жалость.
3Три дня штормило – море наизнанку вывернулось. Тина сверху плавала, рваные медузы, донные песчинки долго не могли осесть… Корабли во время шторма теряли курс, теряли паруса, моряков теряли: пушечный удар волны вышибал человека за борт, словно щепку.
И вот – синий шёлковый штиль растянулся по необозримому пространству. Облака, раздерганные ветром, лениво проплывают над крышами Фартовой Слободки. Утро умывается на дальнем берегу, белопенным полотенцем щеки розовые трёт.
Сонно, тихо ещё. Даже собакам брехать не хочется на пролетающую чайку, на баклана – морского ворона, туго побитого рыбой, выкинутой на прибрежные отмели.
Каменная башня маяка. Сутулая избушка Горилампыча. Сто лет уже присматривает он за маяком. Аккуратный старик, бережливый. Лишнюю каплю керосину зря не спалит. А сегодня что-то…
Старуха Смотрилиха заволновалась.
Захворал ты, что ль? – спросила она. – Хватит жечь карасин. Подымайся, туши.
Тушат капусту с картошкой, – заворчал Горилампушка, потирая ушибленную голову; старухе он ничего не сказал о ночном происшествии, не хотел беспокоить. – Туши, туши… Сколь говорить?
А как тебе надо?
Гасить! Уже сто лет тебе твержу!
Ну, иди, гаси.
– Пусть погорит ишо. Как-никак сам царь просил помаячить кораблю заморскому.
– Помаячь… А на ём-то припрётся палач, на корабеле том.
– А тебе откуда знать?
Вся слобода об том шумит.
Ну, так оно или не так, наше дело телячье: промычал и в закут, – Горилампий вздохнул, поднимаясь и опять потирая затылок: – Башка болит чегой-то. Как будто камнем по затылку вдарили.
Курил бы ты поменьше, Горилампушка, вот и полегчало бы, может.
Подохну – полегчает, – бухнул старик, закуривая.
Оно, конечно… Фу, закоптил! – Смотрилиха двумя руками стала отбиваться от синевато-зеленых облаков. Закашлялась. Пошла на улицу, ругая старика за дурной самосад: – Это что ж такое? Это же не самосад. Самоад какой-то. Сам себя в ад загонят.
Смотрилиха взяла корыто, грязное бельё.
Туман парусиной прилип за избушкой на краю обрывистого мола. Зелёная слизь подсыхает на валунах-волноломах, подраздетых ночным разбойником – отливом.
Забыв, зачем пришла сюда, поставив корыто на камни, Смотрилиха стоит, блаженно улыбается, наблюдая, как вода просветляется с каждой минутой: песок, поднятый бурей, высеивается на дно; последняя волна теряет силу вдалеке – шатается, седыми лохмами трясёт и жалобно постанывает, обнимая громадные волноломы, целуя покатые лбы и поглаживая тёмно-зелёные волосы водорослей.
На горизонте – на самой кромке моря – обозначился корабль. Размером с муху, если не меньше.
Горилампыч! – крикнула старуха, оборачиваясь.
Вижу! – отмахнулся он в раскрытое окошко. – Стирай свои порточки зас… и не лезь не в своё дело!
Ты што? Взбесился? – Никогда она его таким не видела. И матерков не слышала. – Порточки-то, глянь-ка, твои. Может, сам постираш?
Смотритель нахмурился.
– Тебе бы так елдыкнули камнем по калгану, посмотрел бы я, как ты взбесисся, – проворчал он, складывая раздвижную «позорную» трубу (стыдно было, позорно за своё сквернословие).
Огонь маяка уж давно был не нужен – день разгорался. Но Горилампушка настырно палил керосин: что-то хотел доказать и себе, и тем оглоедам, которые по «калгану» ударили. «Думают, всё, мол, напужался дедушка, век не станет зажигать маяк. А вот хрен вам да ещё маленько. Теперь весь день палить буду нарочно!»
Он дождался, когда плечистая фигура корабля подрастёт на горизонте. И только после этого маяк зажмурил свой бессонный глаз.
– Не серчай, – повинился он, подходя к старухе. – Башку-то мне и правда камнем проломили ночью…
Смотрилиха всполошилась:
– Кто? Где?
– Вертопрахи какие-то… Вот, погляди…
– О, Господи! А что же ты молчал?
– Да не хотел расстраивать.
– Дак, может, надо какой компресс?
– Ничего не надо. Не егози. Всё уже утряслось.
Потом они сидели на прохладном берегу. Старик пересказывал ночное приключение. Смотрилиха слушала и замерзала – от ужаса. И прижималась к тёплому надежному плечу Горилампушки.
Послышались колокола в Нагорной Церкви, скраденной высокими деревьями – только золотая луковка в зелени горит.
Примолкли бакланы и чайки, пушистым снегом ссыпались на берег за маяком. Рассветный туман, отрываясь от бухты, главную гору подрезал – подножье на земле оставил, а вершину «подсадил» на небеса, где последняя звёздочка теплится: мелкими жемчужинами отблески дробятся и тонут в голубоватых глубинах… Обломок корабельной реи в белую щепку искусан береговыми камнями, пожёван мокрогубым ртом рычащего прибоя. Отлив оставил рею у чёрной скалы, сверху исполосованной птичьим пометом.
Ох ты, горе моё гореламповое, – вздохнула Смотрилиха, разглядывая побитый затылок мужа. – Кто был-то? Што им надо?
Корабель вот этот им, видать, не по нутру, – догадался Горилампушка, снова раздвигая подзорную трубу.
Дак и мне не по нутру, когда на ём палач.
Смотритель с нарочитой суровостью поглядел на Смотрилиху.
Может, ты меня и стукнула? Сознайся.
Господь с тобой, что ты несёшь, горе моё гореламповое!
Старик засмеялся. Поморщился от боли в затылке.
Стал смотреть в подзорную трубу. Хорошо – далеко было видно.
Ветер соскоблил туманы с прибрежных круч, с воды. Очистилась горловина Фартовой Бухты, обрамлённая двумя утесами. Далёкое солнце малиновым парусом косо поднимается у горизонта; розоватый дым клубится по воде, подкрашивая пену, чаячье перо, упавшее на воду; розовой смолой как будто просмолились борта баркасов, плывущие с утренним уловом; стоящие на рейде бригантины и фрегаты в эти минуты показались изготовленными из красного дерева.
Тяжёлый грозный галион замаячил на фоне солнца – по розовым цветам грузно пошёл в горловину Фартовой Бухты. Неуклюже развернулся, чёрным бортом забирая свет и осторожно работая приспущенными парусами, хлопочущими на ветру.
Глава пятнадцатая. Под кривою крышей кабака
1Фартовая Слободка – место тихое, приворотное для кораблей.
Горы столпились кругом сонной бухты, ветер ловят в каменный мешок. Погодка тут всегда великолепная. С начала весны – совсем красота. Солнце воду прогревает, протыкает золотыми иглами до самого донца. Июньскими деньками – кипяток почти. Былинки да цветинки можно видеть даже на самых суровых валунах.
В общем, Фартовая Бухта – отличный отдых для фартовой братии, вволю побродившей по морям-океанам.
Поклонники грозы, любители отчаянного риска, больших дорог и приключений, в конце концов, становятся ярыми любителями тихого домашнего уюта, почитателями спокойного самовара, на голову которого они обувают сапог, исходивший Землю вдоль и поперек.
История скромно умалчивает о здешних «первопроходимцах» – флибустьерах, авантюристах, искателях золотого руна и золотого яблока, дающего вечную молодость.
Дурохамцы, заморыши и захребетники – они предпочитали менять фамилии, сочинять себе сказочную родословную, заметая и замывая нечистые, кровавые следы, ведущие из прошлого.
Первое «строение» здесь было оригинальное.
Во время прилива море на своих больших руках подняло старенький фрегат и посадило на прибрежную скалу: получился отличный замок в труднодоступной расселине. В бортах фрегата прорубили двери, окна. Крылечко постелили под порог. На перилах накудрявили причудливой резьбы. Какой-то лживописец разрисовал и расписал широкую доску. Пригвоздили на мачту фрегата – издалека завлекало:
«ЗАВЕДЕНЬИЦЕ ДЕВЯТЫЙ ВАЛ».
Хозяйничать взялся первопроходимец по прозвищу Кабан (Кабанчик, а потом Кабатчик стали звать).
Первые годы в этом странном заведении кухарничала и прислуживала странная особа: полудевка-полурыба, точно соскочившая с бушприта, торчащего над скалой. Никто не знал, откуда и когда она прибилась к Фартовой Бухте.
Рыбину эту ночами жарили, аж дым стоял… Жарили все, кто изголодался по женским прелестям. И появились от красивой рыбины красивые мальки с холодными бесцветными глазами, с холодной равнодушной кровью.
Однажды мама-рыба уплыла в лепрозорий – подхватила проказу. Уплыла и не вернулась.
Пришла зима; растаяла. Весна зацвела; лето красное перегорело в слякотную осень…
Среди матерщины, табака и поножовщины рыбьи детишки – «рыбьитишки» – рано возмужали и принялись за дело с неожиданной смекалкой и сноровкой… Ресторация преобразилась, стала почище, покультурней: в портянки сморкались только самые пьяные.
Кто-то семена привез или случайно из-за моря ветром закинуло – баобаб на берегу поднялся неподалеку от ресторации. С годами он вымахал – в необъятную бабу. Хмельные завсегдатаи любили в жаркий день отдохнуть под широким тенистым крылом, обнимали дерево и даже целоваться лезли, приговаривая:
– Тут нету баб, зато есть баобаб! Большая баобабища!
Ты смотри, не сломай об нее свой дорогой струмент! – смеялся Кабатчик Дурнил (пока трезвый – Данил, а напьется – Дурнил).
Кабатчик – несмотря на то, что всегда был Дурнил – сумел поставить дело в ресторации на широкую ногу.
Подавали греческие вина из далёкого Константинополя. Бургунское, больше известное как «романен». Канарские вина были в ходу. Аравийская водка, вызывавшая особую симпатию не только своим вкусом, но прямо-таки ангельским названием – «жизненная вода».
Фрегат, приспособленный под ресторацию, моряки спалили по пьяной лавочке; кому-то показалось вдруг – пираты нападают. Ну и давай отстреливаться, отражать атаку. Всех «пиратов» перебили, а корабль «пиратский» пеплом по ветру пустили, так что даже поутру опохмелиться оказалось негде и нечем.
Однако, нету худа без добра. На берегу построили каменный кабак, с ледником, с подвалами, где стояли полубеременные и беременные бочки – по пятнадцать и по тридцать ведёр соответственно.
Хозяйственный Кабатчик вскоре помер с перепою около одной такой беременной бочки.
Бразды правления принял Савва Дурнилыч – сын.
Кабак с той поры пошатнулся, но по-прежнему оставался в центре внимания всей бухты.
От пристани в кабак дороженька прямая – чтобы никто не промахнулся, не собирал плечами углы соседних домов и приморских утесов, когда возвращается на бровях.
Береговой кабак стоит на крутояре, который неспроста зовётся Пьяным Яром. Сколько моряков переломал здесь руки-ноги! Сколько пьяных голов под обрыв укатилось навек! Сколько просили хозяина «спуститься с небес» – внизу кабак поставить. Нет! Внизу воняет рыбьи ми гнилыми потрохами, грязи много и вообще – горизонта не видно. Скучно внизу. То ли дело на Пьяном Яру, где ветер, как пьяный, ярится, поёт и шумит в дыроватом заборе, свистит на крыше.
Перед заведеньицем широкое дощатое крыльцо с высокими перилами, оберегающими хмельного человека от смертоубийства. Кроме того – рыбачьи сети растянуты по краю Пьяного Яра. Молодец хозяин, побеспокоился. В эти снасти уже попало столько пьяной рыбы – не пересчитать. В основном белуга попадается – те, что спьяну белугой ревут. Время от времени «белуга» режет сети, вырываясь на волю; у каждого пьянчуги за голенищем ножик. Хозяин матерится, починяя снасти: «Для них же стараисся, и они же кромсают!»
2Заскрипела дверь на сорванной петле. На крылечко вышел хозяин кабака – широкоплечий двухметровый Савва, за крупные глазищи получивший прозвище Совы. В руках у него крупноячеистая большая сеть. Он только что ее заштопал, теперь нужно будет растягивать внизу – под Пьяным Яром.
Серьгагуля Чернолис, справив малую нужду, показался на дворе. Портки поддернул.
– Прошу! – пригласил хозяин, показав на полный кубок, стоящий на столике возле двери.
Серьгагуля был сосредоточен. Глядел на Фартовую Бухту, залитую солнцем.
– Топор плывет! – заметил он, поправляя черную лису на голове и не по-доброму прищуривая глаз; морщины рассекли щеку наискосок.
Кабатчик поглядел во глубину двора, где стояла чурка стопором. В недоумении хмыкнул, думая, что Серьгагуля шутит.
Мой топор на месте. А чей же там плывет?
Тебе все хиханьки, а человеку могут башку срубить!
Ты про кого? Кто срубит? Кто плывет?
Топор Обезглавыч.
А-а! – наконец-то понял Савва. – Встретим, встретим, не волнуйся. И не таких ещё брали на абордаж.
Не дури, нужно тихо, – предупредил Чернолис и постучал указательным пальцем по своему виску. – У меня кой-какая мыслишка взопрела под шапкой…
Кабатчик спрятал кулаки за спину. Засопел, как жеребец, остановленный на полном скаку.
– Мыслишка, говоришь? За это надо выпить.
Серьгагуля не спешил. В руке плескался переполненный кубок, оправленный серебром и дорогими каменьями. В правом ухе играла серьга, украшенная рубинами и жемчужиной. Под навесом черной лисьей шапки затаились, мерцая, хитроумные лисьи глаза, наблюдающие за кораблем.
Надо заманить его сюда.
Кого?
Топорюгу этого.
А как заманишь?
Обскажу сейчас… Глотну винца и обскажу. – Серьгагуля потянулся губами к литровому кубку. Но муха села на серебряный край, пробежала по кругу и ошалела – свалилась в темный винный омут, забрюзжала, плавая на спине и стараясь перевернуться; влажная пыль фонтанчиками полетела над краем кружки.
Тьфу, зараза, и когда только успела?!
Говорил же пей, так нет, – Савва расстроился; вино было отменное; он только друзей угощал таким зельем. – Подожди, не надо, Чернолис, не выливай!
Не мелочись, скоро будем богатые, – Серьгагуля опрокинул кубок под крыльцо. Медовуха зашипела, разливаясь по чертополоху, крапиве.
В глубине кабака позвякивали ложки, стаканы и чашки. Прислушиваясь к разговору мужчин, кабатчица крикнула:
– Чужое добро, лей, не жалко!
Серьгагуля презрительно сплюнул с крыльца, наблюдая за розовыми разводами, остающимися от медовухи на поваленных стеблях, на камне. Повернулся к женщине, весело ответил:
– Я – фартовый парень. Не хватало мне мухой закусывать! Подайте сюда удила – хочу закусить! – сказал, подражая Кабатчику.
А мне дак кажется, вы и дерьмом закусите.
Было дело, – согласился Чернолис. – Но пора из грязи в князи выбиваться.
Кабатчик голос подал – степенный, важный, как будто он уже из грязи в князи выбился:
– Гафгафья, ты не рассусоливай, а принеси вина.
Ложки с поварешками «ответили» раздробленным грохотом – хозяйка нарочно стала пересыпать их из одной посудины в другую. Потом железные котлы «ответили» пушечным гулом… Гафгафья старалась… Была она баба ещё молодая, сочная – святогрустных кровей, но как-то так случилось, что судьба свела её с отпетым дурохамцем. Последние годы погнули её, покорежили. Лицо спеклось в морщинистый комок. Седые патлы по плечам болтаются, в похлебку падают (ничего, сожрут пьянчуги проклятые). Звали когда-то Агафьей. Была большая мастерица петь. А нынче голос рычащий, лающий. Иногда посмотрит баба на себя в кривое кабацкое зеркало и подумает: «Гафгафья! А кто же ещё?»
Хозяин засмущался перед гостем. Побагровел щеками.
Баба чёртова, – шепнул и тут же крикнул: – Гафгафья, сучка! В третий раз зову! Дай вина человеку! А то я пойду дам… не покажется мало! И закуску тащи. Где удила, чтоб закусывать?
Вы будете с порога лить, а я на цырлах бегай, ухаживай за вами.
Муха там была. Тащи, сказал.
Сами под мухой с утра. Льют, как воду колодезную.
Ну, хватит гафгафкать. Тащи!
Я притащу – захлебнетесь. Надо, сам иди, а я вон в тесте по уши.
Кабатчик багровеет ещё сильнее. Глазами хлопает, стараясь не глядеть на Чернолиса. Крупным кулаком хрустит, да так хрустит, словно кобель под. крыльцом старую кость разгрызает.
Гафгафья слышит знакомый хруст. Хорохорится: ещё, кривит губу ухмылкой, но душа дрожит, дрожит и спина от страха подмерзает.
Споласкивая руки, она выжидает ещё с полминуты, наливает нехотя и ставит новый кубок на крыльцо.
Подавитесь! – рычит, уходя и поправляя платок на плечах.
А где «пожалуйста»? Я как тебя учил?
Подавитесь, пожалуста, – покорно отвечает Агафья, кланяется чуточку и пропадает в кабацком сумраке.
Ну не сучка ли? – Обескураженный Савва разводит руками. – Вчера воспитывал, два фонаря поставил, чтобы светлее было в кабаке. Культдура чтобы, значит, была на высоте. А у этой дуры никакой культдуры. Позорит на каждом шагу. Перед людями совестно… Ладно, давай закусим удила.