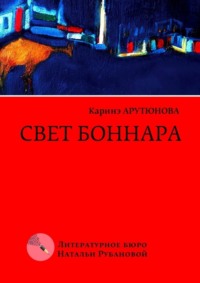Полная версия
Канун последней субботы
Я помню стриженную под горшок девочку Валю, которая говорила «мнясо», «дадишь», «верьевка», я помню тяжелую дверь подъезда, и как она открывалась (сопротивляясь холоду) зимой, и как ударял в грудь и лицо острый воздух.
Я помню тягучее слово «ангина», горло, обложенное пленками, жжение горчичника под лопаткой и этот густой ненавистный запах его (сквозь жар и бред). Пальцы нащупывают обезьянку (о, сколько в Жаконе любви, с какой готовностью она, то есть он, прижимается ко мне), иди же сюда, мой маленький дружок, я расскажу тебе сказку. Рассаживаю полукругом кукол, читаю им книжки. Книжки-растрепки, – смеется папа, и в этом столько любви.
В комнату вплывает малиновое облако, оно накрывает меня, вынуждая глотать, о, как больно и сладко, как горячо. Чьи-то руки взбивают, переворачивают подушку, вытаскивают градусник. Прохладная рука на пылающем лбу.
Я не пойду в садик? И в школу не пойду? Ни завтра, ни даже в понедельник? Ведь ты не дашь им забрать меня, этим чужим людям из казенных домов со слепыми окошками?
Мама смеется, качает головой, она разрешает мне оставаться в постели с Жаконей сколько я захочу (в то зимнее зябкое утро), из кадра уходит тягостная повинность, и это безусловная любовь. Утешенная, распаренная, забываюсь, не выпуская маминой руки.
Помню осколок разбитой чашки и чувство непоправимого. Какое тяжелое, давящее детское горе. Как теснит оно грудь, как жжет под ресницами.
Вечер. Бабушка наряжает меня в какие-то «гости». К каким-то ее (их с маминым отчимом) знакомым, в темные улицы, в душные комнаты, во что-то чужое и неприятное мне. Там накрытый темной скатертью стол, лица, которые я не помню, зудящие голоса и тяжкая, монотонная, непереносимая скука. Я даже готова идти в сад, лишь бы не ходить в эти «гости», к незнакомым вздыхающим людям. В тот вечер все темное, все ненужное, от глубокой тоски мне хочется громить и кромсать все вокруг, и я хватаю тупые ножницы и с наслаждением высверливаю дыру в нарядном и тесном платье.
Ах, сколько любви в солнечном свете! В виноградной лозе, опоясывающей синий балкон. Я купаю пупса, переворачиваю его так и этак, обертываю носовым платком, вытираю насухо. Немного важничаю. Конечно, мой пупс точно такой, как у других девочек. Все точно такое. Ванночка, пупс, какие-то обрезки материи. Это целая жизнь. Огромная летняя жизнь.
Мне выносят стульчик на улицу, во двор, и я воображаю себя билетером. Как будто подъезд – это кинотеатр. Я раздаю билетики. Люди смеются моей изобретательности. Кто-то хвалит – какая сообразительная. Я важно нарезаю бумагу квадратиками и пишу на ней буквы. Это ваш билет, говорю. Пятый ряд, седьмое место.
Почтальонша смеется, поблескивая металлом. Что-то беспокоит меня. «Мама, у всех бывают железные зубы? Ведь это же так некрасиво!» Впрочем, у многих встречаются золотые. Полный рот золота. В нашей семье ни у кого нет ни золотых зубов, ни железных, и это несколько утешает меня.
Вечер. Родителей нет, их так долго нет, что я ощущаю сквозняк. Сиротство. Особенно когда бабушка пытается накормить меня булкой, размоченной в молоке. Если вы хотите сделать вашего ребенка абсолютно несчастным, накормите его тюрей.
Бабушка, сейчас (кричу я) такое не едят! Это старая еда! Это для старых! Для железных зубов!
Булка плавает в молоке, будто распухшее шестипалое чудовище. Я слышу, как тикают ходики, как одиноко тикают ходики, как надрывается изношенный часовой механизм, приводящий в движение Вселенную.
– Мирзолзайн, – говорит бабушка, и я забываюсь горьким и беспросветным сном. В этой соседней комнате (которая как другое государство со своими законами и порядками) живут другие сны. Они тяжелые и душные… Стараюсь не думать про розовую челюсть (бабушкиного мужа), которая плавает в стакане с мутно-белесой водой. Сквозь прикрытые веки наблюдаю за бабушкой – она бормочет, вздыхает, то сидя на стуле, то тяжело ступая по полу, переставляя, перекладывая какие-то предметы. Это как долгий безутешный плач, как жалоба, которая останется безответной.
Одна надежда на утро. Я вернусь в наш светлый, залитый солнцем мир, в котором книжки, растрепанные журналы и ленты от бобинного магнитофона. Там нараспашку окна, там пахнет яичницей-глазуньей, там юные люди танцуют твист и ча-ча-ча и почему-то смеются, глядя на стоящую в пижаме сонную меня.
Бульвар Перова, 42
– Ну, иди уже сюда, горе мое. – Расставив полные ноги в балетках, баба Роза придирчиво наблюдает за неистовыми прыжками по асфальтовой дорожке. – Ну, уже иди сюда. – Она еще шире раздвигает ноги, изготовившись сомкнуть их на моей вертлявой талии. – Первое, – высморкаться – вот так, не жалей, я же слышу, у тебя там осталось, – второе – не бегай ко второй парадной, – кто там сидит? кто? – умничка моя, золотко, – пра-авильно! – баба с кастрюлей на голове и баба Череп, а еще кто? – Хромая Люся, Петрова с противоположного дома, мало ей своих скамеек, и Криворучка.
Клятвенно пообещав не бегать ко второй парадной, я наблюдаю за тем, как медленно вплывает бабы-Розина спина в дверной проем, – авоська с селедочными хвостами бултыхается у сливочных икр, – стоит роскошная середина южного лета, и баба Роза не носит чулок, а надевает балетки на босу ногу – не балетки, а чистое наказание, жмут в пальцах, натирают нежную кожу.
Если бог создал рай, то рай находится где-то здесь – между первым и вторым палисадником приблизительно, в сени огромной акации, на примятой, растущей как попало траве, окруженной кустарником, в спутанных ветвях которого нет-нет да попадаются кислые сизые ягодки – есть их категорически нельзя, от них могут вывалиться глаза, вырасти волчья шерсть и клыки, но разве ж можно удержаться и, зажмурившись, не прокусить тонкую синеватую кожицу…
Про рай баба Роза, конечно же, не догадывается и потому строго-настрого запрещает переходить из первого палисадника во второй – ведь всем давно известно, что по городу ходит банда и крадет маленьких детей, и даже таких непослушных, со сбитыми коленями в зеленке. Что делает банда с маленькими девочками, баба Роза не уточняет, но именно то, что она деликатно не договаривает, волнует и будоражит мое воображение.
Конечно же, баба Роза и не подозревает о том, что она давно уже не является единственным источником информации и истиной в последней инстанции тем более. С некоторых пор я снисходительно отношусь к ее историям, потому что она уже старенькая и многого просто не понимает.
То, что баба Роза уже старенькая, не может не печалить меня, мне кажется, что старость – это что-то постоянное, ведь я никогда не видела бабу Розу молодой. Баба Роза старенькая, и она может умереть – как, например, Танькина бабушка с третьего этажа.
Уже засыпая, я вижу процессию, плывущую вдоль дома и выплывающую на бульвар Перова, и слышу торжественную оглушительную музыку, – а-а-а-а-а-а-а, – кричу я и просыпаюсь и долго вслушиваюсь в свист и храп, доносящийся с высокой кровати. Баба Роза храпит так, как может храпеть только очень живой человек, – она храпит не однообразно, а весело – с нежными переливами, с бульканьем, с клокотанием, и это гораздо страшней, чем скорбная процессия и играющий вразнобой оркестр, – баба Роза, шепчу я, – баба Роза, мне плохо, я умираю, проснись…
Если бог создал рай, то он позаботился о том, чтобы в раю было вечное лето – оно еще бывает бабьим, но я в этом мало что понимаю, – в этом году бабье лето, – сообщает мне баба Роза, и это значит, что до резиновых бот и красных валенок еще целая вечность, а пока можно охотиться за жуками, обкладывать разноцветными стеклами «секретики» и прятаться за мусоркой, вжимаясь спиной в крашеную известью стену.
Можно играть в «казаков-разбойников», выбрав в пару самого отчаянного мальчика двора, и однажды взлететь на подножку уходящего неведомо куда автобуса, и очутиться в незнакомом районе с точно таким же гастрономом и такими же пятиэтажками, и долго блуждать по чужим улицам, повторяя, будто заклинание, вызубренное однажды и навсегда: «Бульвар Перова, 42, квартира 18».
Если бог создал рай, то он населил его старушками, восседающими на лавочках у первого, второго и третьего подъезда. Эти старушки, кивающие головами в разноцветных платках, знают обо мне все – что я бабы-Розина внучка, что я уже «совсем выросла», что вчера у нас были гости, что родители у меня не такие, как все, что «они армяне», что они, страшно сказать, «евреи», – не слушай их, – сжимая мою руку, баба Роза подымается по ступенькам, – ну армяне, это так же непонятно, как индейцы, – я распускаю косы и издаю победный клич – хей-о!!! – недавно меня водили на «Виннету-вождь-апачей», после чего я решила, что интересней всего быть индейцем, индейкой то есть.
С индейцами все ясно, они благородные и сражаются против белых, но евреи? Если евреи – это баба Роза, и баба Рива, и дед Йосиф, то против кого сражаться им? И смогут ли они сражаться? Смогут ли они действовать слаженно и бесстрашно против неведомого врага?
У бабы Розы вставные зубы, на кухне она часто сидит у окна и разговаривает сама с собой, ведет долгие беседы, кивает головой и пожимает плечами.
Она вспоминает эвакуацию, понимаю я, и пристраиваюсь в уголке с книжкой, но листаю ее рассеянно, потому что монолог бабы Розы гораздо интересней, гораздо, – он страстный, гневный, умоляющий, напевный, – в нем баба Роза сводит счеты с кем-то явно всесильным и всезнающим, но каким-то бесчувственным, что ли…
– Ты слышишь? Ты слышишь меня? – вопрошает она и сладко прикрывает веки, – всего на секунду забывается, а потом вновь заходится, соединяя обрывки слов, междометий, – горестно раскачивается на хрупком табурете, складывает щепотью пальцы и прикладывает их к груди.
– Они хитрые и жадные. – Танька Мороз поглядывает исподлобья и добавляет: – И богатые.
Таньку Мороз я знаю сто лет, мы сто раз ссорились и мирились здесь же, под старой акацией, но поводом для ссор были гораздо более серьезные вещи, например немецкий пупс с гибкими ручками и ножками и ярко-красным морщинистым ротиком, а еще набор пластмассовой посуды для крошечной кухни, а еще – прозрачные наклейки с изображением ягод, а еще – жвачка, которую мы жевали по очереди до тех пор, пока она не превращалась в серую клейкую массу.
Жевать жвачку в одиночестве, согласитесь, просто смешно – во-первых, об этом мало кто догадается, во-вторых, так приятно, так здорово мять в пальцах толстую серую гусеничку, раскатывать колобок, делить его на две, а то и четыре части. Жевать исступленно, поглядывая друг на друга с ликованием заговорщиков… Хочешь жуйку? – небрежно выдуть огромный пузырь, втянуть его обратно и жевать, жевать, жевать…
– А ну, дай сюда. – Баба Роза шарит под подушкой и заставляет открыть рот. Больше всего она боится, что я так и усну со жвачкой, и тогда, не про нас будь сказано, – она горестно качает головой и рассказывает ужасный случай про одну глупую девочку.
Они хитрые и жадные, – ну, что-то в этом есть, – я ловко прячу свое сокровище в наволочку и засыпаю под тиканье ходиков, так и не дослушав ужасную историю до конца.
Утро начинается с истошного «вейзмир», потому что волосы мои, от природы и так не слишком послушные, оказываются склеенными намертво. Я шарахаюсь из стороны в сторону, уклоняясь от густого гребешка, понимая, что не избежать мне судьбы одной глупой жадной хитрой девочки, голову которой обрили и густо обмазали зеленкой. А потом продали в цыганский табор, водили по улицам и показывали за деньги.
Синие трико
В старой квартире через кухню была натянута бельевая веревка, а на ней сушились именно они. Беззастенчиво распятые, они парили над головами и шлепали по макушке каждого проходящего под. Хозяйкой трико была молчаливая Дора; кто и когда назвал ее молчаливой, ума не приложу, но факт остается фактом – рот у Доры не закрывался двадцать четыре часа в сутки. Утро начиналось с нее, и день заканчивался ею же. Она комментировала все – собственные действия, действия окружающих, свои мысли о предполагаемых действиях и впечатления от увиденного.
– А! – восклицала она, делая большие глаза. – Это та, у которой ни копейки, а с рынка полные сумки тащит. Эй! – вопила она, высунувшись в форточку. – Почем вишни? – Голос у нее был хриплый, как будто она еще не прокашлялась спросонья, и хотелось взять ее за ноги, за две большие массивные ноги, и хорошенько потрясти, словно грушу. – Почем вишни? Сколько купила? А крыжовник почем? – Развернувшись, она сообщала только что услышанное, увиденное и добавляла от себя парочку-другую эпитетов.
– Десять – кило, ведро – двадцать рублей, – бормотала она, наморщив лоб. От этого она становилась похожей на бухгалтера из домоуправления. Не хватало только синих нарукавников и круглых очков с перебинтованной дужкой.
На сумки она налетала, будто хищная птица, – профиль ее алчно нависал, а глаза так и шныряли.
– Ай-ай, – стонала она, причмокивая, – вишенки, только дорогие, на мою пенсию не разгуляешься. – Веки ее скорбно прикрывались, но глаза под ними не переставали перебегать – с вишен на крыжовник, с крыжовника – на яблоки, – она, разумеется, пробовала и то, и другое, и даже третье, – скривившись, швыряла в ведро огрызок. – Фе! – шо-то кислое, как не знаю что, – деньги на ветер! – выносила она вердикт и стремглав неслась к окну.
Она знала все и про всех. Кто когда женился, у кого кто болеет, кто завел интрижку на стороне и кто собирается разводиться. Она чуяла близкую кончину и рождение – да что там, она рождалась и умирала с каждым, не прекращая комментировать. Самое ужасное – ее невозможно было выключить, как радио, – малейший намек на «многоговорение» вызывал вспышку смертельной обиды – молчаливая До обращалась в соляной столп и делала жест, которым якобы зашивает себе рот.
– Ни слова! – как будто произносила она, яростно вращая зрачками, – больше ни слова вы от меня не услышите – но от кого тогда вы узнаете о ценах на ягоды и на гречку, об урожае и прогнозе погоды, словом – обо всем! Кстати сказать, молчание Доры было еще страшней, чем говорение. Молчала она страстно, виртуозно – как хорошая драматическая актриса, она держала паузу…
Но не уходила!
Она продолжала присутствовать, всем своим видом напоминая о себе, – откашливаясь, в тысячный раз прохаживалась тряпкой по кастрюлям, горестно заглядывала в шкафчик, укоризненно вздыхала и – молча! – стояла у окна. Можно только представить себе, каких неимоверных усилий стоило ей молчание! Казалось, слова клокочут и трепещут в ее просторной груди, подкатывают к гортани, щекочут язык… Молчание ее становилось воистину непереносимым! Оно было огромным и заполняло собой все пространство кухни. Все отчего-то принимались ходить на цыпочках.
Сопя, она раскладывала на доске курицу и молча принималась за разделку. Это было то еще испытание. Наточенное лезвие порхало, ошметки взлетали, и, верите ли, это было ужасно. Ужасно было не слышать сладострастного бормотания: ай, какой пупочек, ай, крылышко, ай, шейка!
Но я не об этом. Я о трико. Все это время синие трико угрожающе (или торжествующе) развевались над головами. Что это было? Капитуляция? Победа? Перемирие? Все, что нам было нужно, – это немного терпения. Совсем чуть-чуть. Потому что с каждым взмахом ножа лицо молчаливой До разглаживалось и светлело. Казалось, распластанная на доске курица вдыхала в нее новую жизнь. Дыхание Доры становилось размеренным, а на щеках появлялся нежный, точно у девушки, румянец.
– Фрикадельки, – это было первое слово после часа или даже двух, – фрикадельки – детям!
Кастрюля с бульоном и фрикадельками так благоухала, так источала, – за кольцами вздымающегося пара лицо Доры казалось молодым и даже красивым… Ей-богу, молчание было ей на пользу!
– Фрикадельки – детям! – повторяла она и величественно удалялась. Ее необъятный зад колыхался, а исчезающая в дверном проеме спина была красноречивей многих слов. Но я не об этом. Речь о Дориных трико. Иной раз, откашливаясь, мама заводила беседу о том, что хорошо бы, – понимаете ли, Дора, – у нас бывают гости – интеллигентные люди, аспиранты и даже профессора, – это неудобно, – пускай пока повисят в комнате, вы не возражаете?
– В комнате? – Уперев руки в массивные бедра, Дора запрокидывала голову и разражалась визгливым хохотом. – И это вы называете комнатой? – Смех ее переходил в клекот, вой, рыдания.
Мы, дети, с интересом ожидали развязки, потому что в чем-чем, а в истериках молчаливая До слыла великой мастерицей!
– Это вы называете комнатой? Это гроб! – взвизгивала она, обводя собравшихся торжествующим взглядом, – слава богу, истерики сегодня не предполагалось, всего только немного иронии, сарказма… – Этот гроб вы называете комнатой? И в этом можно жить?
Что сказать, в сентенциях равных нашей До не было.
– И что, вам стыдно за мое белье? Вполне приличное белье, не рваное, слава богу, не латаное и, что самое главное, чистое!
Последний аргумент крыть было абсолютно нечем – белье было действительно чистым и даже подсиненным. Тяжелую выварку Дора собственноручно водружала на плиту и священнодействовала над ней часами, орудуя такой специальной деревянной палкой. Конечно, интеллигентные молодые люди, которые заглядывали в наш дом, в первый момент были несколько… как бы это сказать… фраппированы, но только в первый момент.
В доктора Жан-Поль-Марию я была тайно влюблена, как влюблена была и в его предшественника. И во всех папиных студентов, а потом аспирантов, в друзей их друзей, в их жен (временных и постоянных), а также просто подруг. После Жан-Поль-Марии в нашем доме бывали перуанец (японского происхождения) Мигель, маленький, будто выточенный из темного дерева, перуанец Хорхе (и его прелестная жена, похожая на индейскую пеструю птицу, ее звали Бригитта, а также их крохотный сын Пепик), доминиканец Отто и его прелестная юная возлюбленная из Венесуэлы Паулина. В каждого нового гостя влюблялась я страстно и почти безответно, хотя нет – они тоже питали к неловкой девочке-подростку, по всей видимости, добрые чувства.
Однажды я влюбилась одновременно в пятнадцать человек – это были аспиранты и студенты из Сирии и Ливана – все как один статные и яркие юноши (и взрослые мужчины) армянского происхождения, – все как один сидели они за нашим столом, подвергаясь безудержному гостеприимству хозяев и моему безусловному молчаливому обожанию. Но это тема совершенно другой истории.
Темнокожий аспирант из Конго, кажется, был тайно влюблен в обладательницу столь роскошного белья. Полыхая белками глаз, он воздавал должное фрикаделькам, бульону – он одаривал До чарующей белозубой улыбкой и время от времени, поглядывая наверх, вздыхал; что напоминала ему синяя бязевая ткань? Невесту? Возлюбленную? А может быть, некую могучую прародительницу, мифическую богиню плодородия?
– Надо же, кушает. – Подперев подбородок пухлым кулачком, Дора с умилением поглядывала в сторону заморского гостя. Она немного… по-женски… по-матерински… жалела его, такого черного, такого одинокого на чужбине. – У них, наверное, там голод, не то что у нас, слава богу.
Доктор Жан-Поль-Мария – а он был доктор – уже не вполне молодой – благоухающий, корректный, весь в манжетах и запонках, – благодарно кивал, склонив жесткую плюшевую голову над тарелкой, – все-таки удивительная страна, удивительные нравы… Под его бархатным взглядом До расцветала – она трепетала, точно птичка, и щебетала, щебетала, щебетала…
Доктор Жан-Поль был благодарным слушателем: ни разу! – ни разу он не перебил молчаливую Дору, напротив – с грустным и сосредоточенным вниманием он вслушивался в ее голос, вспоминая, должно быть, интонации спиричуэлс и таких же щедрых, смешливых и гневно-прекрасных женщин своей далекой родины.
Рыба
В тот день папа принес рыбу. Не просто рыбу. Рыбину. Не знаю, где он ее достал (в те времена настоящую еду именно что доставали или добывали, как трофей).
Уж, во всяком случае, не на удочку. И не в рыбном (там такие сроду не водились).
Это была огромная красная рыба, необыкновенно вкусная (я такой больше нигде и никогда не ела), какого-то специфического посола, – казалось, я могу ее есть всегда, длить и длить это блаженство, которое так и тает на языке, оставляя солоноватый вкус счастья.
К слову сказать, явление этой особенной рыбы пришлось как раз в постскарлатинный период, когда я шла только на соленое. Обычную каменную соль из солонки я могла есть, подбирая крупинки влажным пальцем и слизывая их по одной.
Рыба, повторюсь, была особенной, редкой и слишком… роскошной, что ли, для нашей небольшой кухоньки на втором этаже обычной пятиэтажной хрущевки. Несоразмерной, должно быть, обстоятельствам чувствовала себя и она.
«Не тот масштаб», – наверняка думалось ей, уныло лежащей на столе, с которого пришлось убрать все лишнее. Чувство вселенской несправедливости, вероятно, теснило ее перламутровую грудь, незаметно переходящую в серебристый животик.
Господи, какой прекрасной она была. Упругой, скользкой, благоухающей. Надо ли упоминать о том, что холодильник наш был соразмерен квартире, но уж никак не прекрасной гостье?
– Боже, – выдохнула мама, склонившись над страдалицей. Бедная юная мама, она вообще не понимала, с какой стороны подступиться к этому фантастическому явлению. И даже бабушка, которая в жизни не видела ничего крупнее карпа или леща, заметно сникла.
Что же касается добытчика – главы, так сказать, семейства, то он тоже, в общем, был не очень искушен в рыбных вопросах, – скажу больше: он не только не ел ничего рыбного, он его на дух не переносил. Одному создателю известно, как удалось ему донести это самое рыбное до дома. С трудом представляю папу, всегда со вкусом, с иголочки одетого, – в трамвае, среди кошелок, авосек и корзин, – с увесистым пахучим свертком в руках.
На семейном совете решено было поделиться рыбой с Верочкой, которая жила неподалеку. Это была интеллигентная женщина неопределенного возраста и миниатюрного роста, кажется мамина сотрудница, переводчик.
Но для начала ее нужно было разрезать. Не Верочку, разумеется, а рыбу. Вооружившись острым ножом, мама сделала тонкий надрез вдоль жемчужного брюшка. Папа предпочел удалиться, не вынеся благоухания и вида беспомощно распростертого на столе существа. Ах, что за жабры, что за плавники, какой немыслимый хвост и чешуя на нем!
Воображаю, как обрадовалась маленькая Верочка такому королевскому дару.
Не помню, сколько длилось рыбное благоденствие нашей семьи, – казалось, даже оставшейся половины хватит на долгую-предолгую жизнь.
Собственно, именно таковой она и является, особенно если дело происходит в тесной кухоньке, окнами выходящей на бульвар. За которым – школа, но об этом потом, возможно через месяц или два, а пока же солонка полна отборной, чуть сероватой крупнозернистой соли, она не закончится никогда.
До курицы и бульона
Есть ли в вашем доме настоящая шумовка? Которой снимают (в приличных домах) настоящий жом. Жом – это для тех, кто понимает.
В незапамятные времена дни были долгими, куры – жирными, бульоны, соответственно, – наваристыми, и жизнь без этой самой шумовки уж кому-кому, а настоящей хозяйке показалась бы неполной.
Шумовка как важный предмет кухонного обихода была ничуть не менее важна, чем, например, стиральная доска или чугунный утюг. Таким утюгом можно было выгладить все что угодно! Какими безупречными казались складки, стрелки, воротнички – стоило только пройтись по ним тяжеленным (не трогай! обожжешься, уронишь, покалечишься) и полным незаметного достоинства чугунным чудовищем. Чудовище было сделано на века (и где он теперь, где? не иначе как в одной из антикварных лавок, коих развелось великое множество). Как, впрочем, и дверцы комода, и выдвижные ящички (шифлодики, или шухлядки – кому как нравится). Однажды пришлось обильно попотеть, прежде чем открылся запертый на ключ нижний ящик письменного стола, – ключ все не поворачивался в засоренной чем-то замочной скважине, я долго корпела над ней, сопя, пока не раздался характерный хруст – что-то предательски треснуло в этой самой скважине, и ладони мои взмокли, – обломки ключа я выковыривала с каким-то извращенным сладострастием, а после уже рвала и терзала ни в чем не повинный ящик – клянусь, мало что могло остановить юную взломщицу в момент совершаемого преступления, хотя картины Страшного суда одна за другой являлись перед затуманенным взором.
Хруст, щелчок, рывок, и ящичек плавно поддался – не ожидая столь быстрого разрешения, я замерла – перед свершившимся (о, не исправить, не скрыть) фактом и богатством открывшегося.
Чего только не было в тайнике! Насладившись вдоволь – перечисляю по порядку – записными книжечками, перьевыми ручками, курительными принадлежностями (и в том числе изогнутыми причудливо трубками), сладким табачным ароматом, сверкающими зажигалками, кнопками, монетами, открытками, ножиками для разрезания бумажных листов – дрожащими руками я выудила со дна ящика старательно перевязанную бечевкой пухлую пачку писем.