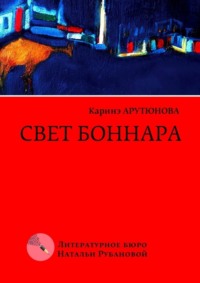Полная версия
Канун последней субботы
Отчего Валькин отец черный, как цыган, и злой? Отчего он трезвый, и злой, и красивый? Отчего колотит Вальку, дерет как сидорову козу за любую провинность и каждую четверку? Отчего Валька, сонная, с квадратными красными щеками, похожая на стриженного под скобку парнишку-подмастерье, боится, ненавидит и обожает своего отца? Отчего мать ее, большая женщина в цветастом халате, из-под полы которого выступает полная белая нога, – отчего плывет она по двору, будто огромная рыба, огромная перламутровая рыба с плавниками и бледными губами, на которых ни улыбки, ни задора.
Отчего бушует Колька, скрежещет железными зубами, рвет растянутую блекло-голубую майку на впалой, как у индейца, груди, – отчего слезы у него мутные и тяжелые, отчего грызет он кулак и мотается на своей тележке туда-сюда, бьется головой о ступеньки. Шея у него красная, иссеченная поперек глубокими бороздами. Отчего на предплечье его синим написано… И нарисовано сердце, пронзенное стрелой.
Мимо первого подъезда пробегаю торопливо, оттого что пахнет там водкой и «рыгачками». Валька называет это так. Тяжкий дух тянется, вьется по траве, добирается до нашего второго, не иначе как по виноградной лозе, прямо на кухню, где хозяйничает и кашеварит моя бабушка – бормочет и колдует над смешным блюдом под смешным названием «холодец».
– Шо вы варите, тетя Роза? – Голос у Марии звонкий и певучий, и сама Мария прекрасна, с выступающими скулами, икрами стройных ног, – прекрасна, как Панночка, жаркоглазая, она парит над домом, свесив черные косы. Они разматываются, как клубок, стелятся по земле, струятся.
Прекрасна в гневе и в радости, в здравии и в болезни, – прекрасна с седыми нитями в затянутых на затылке волосах, с красными прожилками в цыганских глазах, с паутиной лихорадки на скулах, – она расползается в пьяной улыбке, прикрывая ладонью прорехи во рту. Сиплым голосом выводит куплеты – застенчиво прячет за пазуху червонец. Долго смотрит мне вслед.
Отчего Мария несчастна? Отчего, если свернуть тудой, то можно увидеть, как разворачивает крыло бабочка-капустница, как тополиный пух окутывает город, забивается в глаза, ноздри, щекочет горло.
Отчего так прекрасны соседские девочки, шестнадцатилетние, недостижимо взрослые, загадочные, с тяжелыми от черной туши веками, – пока я купаю в ванночке пупса, они уже отплывают в свою взрослую жизнь. Я завидую им, я различаю их запахи. Медовый, карамельный – Сони, щекочуще-дерзкий, терпкий, удушливый – Риты, сливочный, безмятежный – Верочкин.
Аромат тайны витает по нашему двору. Что-то такое, что недоступно моему взору, непостижимо, оно щекочет, и волнует, и ранит.
– Иди сюда, – говорит мне Рита, самая удивительная из всех, самая отчаянная, – воодушевленная «взрослым» поручением, я слетаю по лестнице, несусь по улицам, сжимая в кулаке записку. Я готова на все. Носить записки, беречь ее сон, думать о ней – не знаю, я готова на многое, но это многое непонятно мне самой, что делать с ним, таким тревожным, таким безбрежным.
Рита носит чулки телесного цвета, и тогда ее длинные шоколадные ноги становятся молочными. Чулки пристегиваются там, под юрким подолом самой короткой в мире юбки. Когда я вырасту, то куплю себе такие чулки и такую юбку.
Пока я верчусь в темной комнате, вздрагиваю от наплывающих на стену теней, она выходит из машины, пошатываясь, помахивает взрослой сумочкой на длинном ремешке. Девочка в белом кримпленовом платье. В разодранных чулках, взлохмаченная, похожая на поникшую куклу наследника Тутти. Имя нежное – Суок.
Отчего бывает дождь из гусениц? Толстых зеленых гусениц? Они шуршат под ногами, скатываются, слетают с деревьев, щекочут затылок.
Хохоча, он несется за мной с гусеницей в грязном кулаке. Ослепшая от ужаса, я уже чувствую ее лопатками, кожей, позвоночником. «Вот тебе», – дыша луком и еще чем-то едким, пропихивает жирную пушистую тварь за ворот платья.
Его зовут Алик.
Когда-нибудь я отомщу ему. Я выйду из подъезда, оседлаю новый трехколесный велосипед. И сделаю круг вокруг дома. Круг. Еще круг, еще.
Отчего похоронные процессии такие длинные, такие бесконечные? Отчего так страшна музыка? Эти люди, идущие молча, в темных одеждах. Его мать в черном платке. Падает, кричит, вырывается из крепких мужских рук. А вот и Колька Котовский на колесиках. Слезы катятся по красному лицу.
Море стрекочущих в траве гусениц, зеленое, черное, страшное. Мир перевернулся. Отчего так страшно жить?
Тополиная аллея ведет к птичьему рынку, на котором продают все. Покупают и продают. Беспородных щенков, одноглазых котят, мучнистых червей. Топленое молоко, разноцветные пуговицы, сахарные головы.
Пока я расту, растут и тополя. Шумят над головой, кивают седыми макушками.
Если пройти сюдой, то можно увидеть очередь за живой рыбой, кинотеатр, трамвайную линию, бульвар, школу через дорогу и другую, чуть подальше, – а еще дальше – мебельный, автобусную остановку, куда нельзя, но очень хочется, потому что там другие дворы и другие люди, совсем не похожие на наших соседей. Туда нельзя категорически, потому что уголовники ходят по городу, воруют детей, варят из них мыло.
Если вызубрить точный адрес, все не так страшно.
Чужая женщина ведет меня, крепко держа за руку, – это добрая женщина с усталым лицом и полупустой авоськой. Она непременно выведет меня к дому, на мой второй этаж, – тудой или сюдой, не суть важно.
Все дороги ведут туда, к кирпичному пятиэтажному зданию с синими балконами, увитыми диким виноградом.
Посланник небес
– Я посланник небес. – Немолодой мужчина в широченных брюках и светлом плаще пристально смотрел на меня сквозь толстые мутные стекла старомодных очков.
За стеклами угадывались крошечные беспокойные зрачки. В тот день шел дождь, не дождь даже, а мелкая мокрая взвесь летела из-за угла, – поддувал неуютный ноябрьский ветер, и вид у посланника был совсем невеселый.
– Я посланник небес, – повторил мужчина и сильно качнулся.
Хорошо, что рядом стоял перевернутый ящик, – крякнув, посланник плавно опустился и уронил голову на колени. Сквозь давно не мытые пряди редких волос проступала младенческая кожа.
Мне стало страшно.
– Михаил Аркадьевич, – пролепетала я и коснулась заляпанного грязью рукава.
Нет, мы и раньше подозревали, что с учителем моим не все ладно – он часто опаздывал и переносил занятия, и, собственно, успехи мои на музыкальном поприще оставляли желать лучшего – дальше убогих песенок и корявых гамм дело не шло.
Начнем по порядку. Все началось с того, что к нам пожаловали проверяющие из музыкальной школы номер шесть. Класс разбили на группы, и каждую группу прослушивали специально уполномоченные дяденьки.
Деловито одернув подол школьного платья, я рванула дверь на себя. Аккомпаниатор, полная яркоглазая брюнетка, вскинула голову и ободряюще улыбнулась.
Сейчас… сейчас я им покажу! (Надо сказать, до сих пор я абсолютно убеждена в том, что никто и никогда не исполнял эту песню лучше меня.) К девяти-десяти годам у меня прорезался голос – скорее низкий, нежели высокий, и радовала я своих домашних совсем не детским репертуаром, начиная с «Коля, Коля, Николаша, где мы встретимся с тобой» и заканчивая «Вихри враждебные веют над нами». Так что, уж будьте уверены, внезапная музыкальная проверка не застала меня врасплох.
Откашлявшись, я отставила ногу чуть в сторону.
Брюнетка энергично ударила по клавишам и… Мне даже кажется, она не поспевала за мной, и высоченная, обтянутая джемпером грудь задорно подпрыгивала в такт громовым раскатам моего голоса, потому что от волнения (а я волновалась, как все начинающие артисты) я пела несвойственным мне басом (это потом уже, в музыкальной школе, окажется, что у меня альт, настоящий альт, тогда как у большинства девочек – сопрано, а у меня – серебряная трубочка, вставленная в серебряное горло, и называется она – альт).
– Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка! – Блистая глазами, я притоптывала ногой и, клянусь, если бы в непосредственной близости от меня оказался вороной жеребец…
Но жеребца рядом не было. Напротив сидели те самые скучающие дяденьки. Но это поначалу скучающие. Уже со второго такта лица их оживились – как будто некто невидимый смахнул влажной тряпочкой пыль. Ближе к концу выступления дяденьки разрумянились и весело переглядывались друг с другом.
На бис я исполнила, конечно же, «Тачанку», «Поле, русское поле», «Орленка» (когда я пою «Орленка», то отчетливо ощущаю, как во лбу моем загорается звезда) и песню из «Неуловимых» (а тут я становлюсь одновременно Яшкой-цыганом, Данькой, чистым полем, звездным небом, вороным конем; я становлюсь синеглазой девочкой в белом платочке и Бубой из Одессы, я плачу и смеюсь одновременно).
Сморкаясь и утирая слезы (это были слезы восторга, дорогие мои), дяденьки долго расспрашивали меня о родителях, о том, что я люблю и кем хочу стать в будущем. Вердикт оказался вполне ожидаемым и ничуть меня не удивил.
– Скрипка! – Один из них сделал меланхоличное лицо, изобразив, видимо, таким образом, этот прекрасный во всех отношениях инструмент.
– Фортепиано, – широко улыбнулся второй; нос его лоснился, а толстые стекла очков затуманились. Я отметила несколько выступающие зубы и что-то кроличье в лице.
Можно сказать, что Михаила Аркадьевича я привела домой за руку, таким образом поставив недоумевающих родителей перед фактом.
Концертное фортепиано «Фингер» привезли через месяц. Покупка эта образовала зияющую дыру в нашем и без того весьма скромном бюджете, но родители, посовещавшись, решили затянуть пояса потуже, и, знаете, элегантный чужеземец до сегодняшнего дня стоит у стены, изредка напоминая о себе глубоким вздохом все еще натянутых струн.
Я обзавелась нотной папкой и собственно нотами. Казалось, стоит откинуть крышку, водрузить ноты на пюпитр, и чарующие звуки польются, пальцы побегут, и это будет так же прекрасно и незабываемо, как, допустим, финальная сцена в «Неуловимых». Увы.
В тот самый день, когда изящный (но все же громоздкий) инструмент стал членом нашей семьи (о, сколько радости от долгого ожидания, суеты, сдавленных криков «Левее! Правее! Осторожно, угол!»), – о, сколько благоговения перед этим заморским чудом, распахнувшим черно-белую пасть, – сколько надежд, увы, не оправдавшихся… В тот самый день, когда, коснувшись гладких клавиш (сиреневая, томная ля, нежно-голубая си, а до похожа на долгий-долгий понедельник), я замерла, вслушиваясь в постукивания невидимых молоточков по невидимым струнам… – в тот самый день жизнь моя превратилась в сплошной понедельник.
Детство кончилось.
Но тогда, ведя в дом (буквально за руку) этого немолодого, с розовеющими залысинами и набрякшими красноватыми веками мужчину, я об этом не подозревала.
Прихрамывающие гаммы, зубодробительные этюды, велеречивые и торжественные полифонии; портрет красноносого недовольного мужчины с оплывшим лицом в неопрятной бороде и распахнутом на толстой груди халате и напротив – портрет другого, степенного и округлого, с купеческим пробором в тусклых ровных волосах; уроки сольфеджио и музыкальной литературы, тоскливые сумерки, презрительный взгляд хориста, ненавистный третий ряд, в котором окажусь я единственная, с выжженным на лбу клеймом «альт», – все эти палочки и крючочки, скачущие перед глазами, дни и вечера, вечера и дни, а также… смятые трех- (пяти- и десяти-) рублевки… они порхали, кружились, таяли в глубоком кармане светлого плаща моего первого учителя.
В школу меня брали сразу в третий класс, условившись, что первые два я пройду за пару месяцев с уважаемым Михаилом Аркадьевичем.
– Не дадите ли авансом пять рублей? – Смутившись, мама нашарила в сумочке бумажку и неловко протянула через порог.
В следующий раз сумма аванса несколько возросла, но учитель так кланялся и шаркал ногами… От него странно пахло.
– Все равно он хороший, – упрямо склонив голову, я продолжала уверять домашних, что лучше Михаила Аркадьевича… И это несмотря на то, что во время уроков мне приходилось не дышать или дышать в сторону.
Пальцы его рук были толстоватые, неповоротливые. Точно клешни, двигались они по клавиатуре, исторгая звук странным царапающим движением. Звук был сухой, глухой, тусклый, как, впрочем, и унылые экзерсисы, которые нужно было пережить, чтобы дойти наконец до настоящей гармонии. Иногда с красноватого вислого носа моего учителя свисала прозрачная капля. Я терпеливо ждала, когда же она сорвется и упадет, но она все не падала. Коричневая дужка очков была старательно заклеена скотчем, а воротник пиджака густо усыпан перхотью.
Вместе с Михаилом Аркадьевичем в дом вползали тяжелые запахи чуждого мира. Как будто кто-то распахивал комод, в котором нафталинные шарики, вещи, прожившие долгую насыщенную жизнь, кисловатый запах кожи, мыла, резкий, цветочный – одеколона и тоскливый, красноречивый – долгого безрадостного бытия. Мне было жаль его.
В очередной раз одолжив десятку, учитель исчезал на неделю. Звонить было, как вы понимаете, совершенно некуда, и мы терпеливо ждали. Я открывала и закрывала нотную тетрадь, догуливала (не без удовольствия) последние сентябрьские дни…
– Я посланник небес. – Немолодой мужчина в широченных брюках и светлом плаще пристально смотрел на меня сквозь толстые мутные стекла старомодных очков.
В тот день шел дождь, не дождь даже, а мелкая мокрая взвесь, поддувал неуютный ветер, и вид у посланника был довольно жалкий.
– Я посланник небес, – повторил мужчина. Его сильно качнуло.
Хорошо, что рядом стоял перевернутый ящик, – крякнув, посланник плавно осел и уронил голову на колени. Сквозь редкие светлые волосы проступала младенческая кожа.
Мне стало страшно.
– Михаил Аркадьевич, – пролепетала я и коснулась заляпанного грязью рукава.
Учитель поднял на меня блекло-голубые глаза, испещренные мелкими кровеносными сосудами.
– Валентина! – с неожиданным напором произнес он. – Я требую уважения, Валентина! – Он громко выдохнул, и облачко пара вылетело из его губ.
Я отшатнулась.
– Женщина! – Собрав, по-видимому, остаток сил, учитель поднялся с ящика и плавно взмахнул руками. – Иди домой, женщина!
– Я посланник небес, – повторил он, возвышаясь надо мной. Широкие его брюки трепетали на ветру, а тонкие пряди взмывали, образуя что-то вроде нимба над головой, – казалось, еще немного – и он взлетит…
– Дядь Миш! – Чей-то невнятный темный лик вынырнул из-за угла. – Иди до нас, дядь Миш. – Там, в глубине арки, которая вела к тыльной стороне гастронома и овощного, уже звякало что-то, блестело, булькало – так вмиг оборотная сторона бытия открывается взору ошеломленного ребенка, бегущего вприпрыжку с зажатой монеткой в руке.
– Мишаня! Иди до нас! – Я отпрянула, вжав голову в плечи, и ринулась назад, к дому. Позади раскачивался силуэт моего учителя и его соратников, наверное таких же верных последователей Модеста Мусоргского и Михаила Глинки.
В четверг, как ни в чем не бывало, смиренный и какой-то уменьшившийся в размерах, даже несколько усохший Михаил Аркадьевич вырос на пороге нашего дома.
– Не могли бы вы… – вежливо начал он, в широкой улыбке обнажая розовые десны и выступающие кроличьи зубы. – Не могли бы вы до получки… авансом, богом клянусь. – Он улыбался и шелестел невидимыми миру крыльями, из тихих глаз его струилась совершеннейшая гармония небес – нежно-голубая си, сиреневая ля и длинная до, долгая, как долгий понедельник.
Мелодия
Далекие воспоминания становятся еще более дальними, размытыми, и место их занимают другие, яркие, свежие, но между ними образуется зазор, воронка, провал, и вот тут-то вспыхивает та самая лампочка, без которой немыслим прошлый век, немыслимы ранние сумерки (уже сквозит, поддувает из подворотен, уже маячит призрак зимы, то есть абсолютного обнуления всего), и щемящая нота (посыл оттуда, издалека) внезапно расставляет акценты, отсекает лишнее, обозначая тот предел, за которым уже не страшно.
Там тоже жизнь. Но другая. Едва уловимый привкус забвения, долгого сна, в котором пестрые гирлянды и сверкающая мишура детского праздника (без него нам не выжить, все это знают, и ты, и я) удлиняют и без того бездонную ночь, и мерцание далеких окон создает иллюзию жизни, присутствия (эй, кто бы ты ни был, отзовись) и отсутствия (ветер сбивает с ног, фонарь раскачивается, жизнь теплится из последних сил).
И тут входит он. Этот человек. Или его силуэт. Или воспоминание о нем. Или след воспоминания (как будто некто касается клавиш, рискуя сбиться с главной темы). И долгий звук (то ли расставания, то ли надежды, то ли сожаления или же всего сразу) прорвет слепую пленку тишины, и вспыхнет свет (тот самый, из октябрьских теплых дней, из шороха и всплеска листьев, слов, всего того, что между ними), и это будет та самая мелодия, которую ты вспомнишь, закрывая глаза.
Обратная сторона Земли
Там, с обратной стороны Земли, люди ходят вниз головой. Нет, не то чтобы совсем вниз – только по отношению к нам, идущим как положено. А вот по отношению к ним вниз головами ходим уже мы. Ходим, торопимся, смеемся, грустим.
Какая из сторон обратная? А вот обе. Абсолютно обе. Говорят, там живут наши двойники. Живет, например, точно такая, как я. Интересно, неужели и платье у нее мое, красное в белый горошек, и голый пупс в ванночке, и заросли дикого винограда вьются с балкона первого этажа? Неужели длинный пятиэтажный дом, в котором живут обыкновенные люди? А может быть, там, с обратной стороны, люди эти ведут себя по-другому – вежливо раскланиваются при встрече и говорят по-китайски. Потому что Китай – он тоже примерно там находится, и двойник мой – дивная китаянка, живущая в бамбуковой хижине, а вовсе не в пятиэтажном доме на улице Перова. И Люсик – китаец, и Рыжая Галоша, и учительница младших классов, маленькая старушка в шерстяном платке.
Зовут ее Дина Хаскелевна. Некрасивая, сгорбленная, она возникает на пороге, улыбается, кивает седой головой. Передвигается неслышно, в обрезанных войлочных сапожках. Ходит, будто утюжит натертый рыжей мастикой пол, вжик-вжик.
– Однажды, – произносит она – и выпускает из-под платка маленькие уютные ручки, – однажды, – говорит она тихо, так тихо, что слышна жужжащая за окном муха, – однажды в одной стране жил фараон.
Когда я слышу слово «однажды», меня два раза упрашивать не надо. Сорок пять минут пролетают как одна, и к дому я иду медленно, стараясь не расплескать это «однажды». Фараоны, их жены и сыновья, голодные и сытые коровы.
Медленно ползет караван по обратной стороне Земли. На золотой колеснице восседает многорукий фараон, а за ним тащится голодная корова. У коровы тощее иссохшее вымя и налитые печалью глаза.
Я горделиво озираю окрестности. Все эти люди – мои подданные. Подданные моего королевства. Старушки на скамейках, небритые мужчины у ларьков, заспанные продавщицы. Растущие у обочины васильки, примятые листья подорожника. Им и невдомек.
Ведь настоящий король, он всегда немножечко нищий, он такой… специальный король, внутренний. Он может спокойно прогуливаться по бульвару Перова и пить трехкопеечную газировку. Настоящий король ничем не отличается от своего народа.
Только однажды… Вы слышите? Однажды…
Кто-то хватает меня за ворот платья. Визжат тормоза.
– Ты что, ослепла? Куда прешь?
Огромный детина в полосатой тенниске выскакивает из кабины грузовика. Он озирается по сторонам, и лицо у него растерянное, пунцовое.
– Ты хоть понимаешь? Мне что, в тюрьму из-за тебя садиться? Ты где живешь?
Живу я напротив и всякий раз, переходя через дорогу, смотрю на наши окна. Я жила здесь всегда.
Дом – это такое место… В общем, оно навсегда. Щербатые ступеньки, скособоченный почтовый ящик, обитая дерматином дверь, падающие с дерева марельки. Такие маленькие твердые абрикосы. Их можно есть зелеными, так же, как и кислющие райские яблочки. Яблочки скатываются под ноги, ударяют по макушке.
Отсюда никуда не уезжают. Разве что однажды… Навсегда алкоголичка дядя Степа. Иногда ее называют старой перечницей. Ну, старая – это понятно. А почему перечница? А потому что нос у нее – огромной картофелиной, мясистым мятым перцем, да еще и в таких забавных черных крапинках и глубоких рытвинах. Иногда пахнет от нее странно, очень странно.
Покачиваясь, стоит она на ступеньках, улыбается мягкой, слезливой, неприятной улыбкой. Морщинистое лицо разъезжается в стороны. Заплывший глаз закатывается под самый лоб, а нос, – он уже не перец, а целая груша, – раскачивается над подбородком – туда-сюда.
Дядя Степа озабоченно роется в черной, истертой на сгибах кошелке. Пахнет от кошелки чем-то тяжелым, удушающим.
– На вот, деточка, возьми ириску.
Ириска липкая, пачкает ладонь. Я осторожно кладу ее на подоконник в пролете второго этажа.
Там, с обратной стороны Земли, похожая на меня девочка в перекрученном черном фартуке так же медленно поднимается по ступенькам. А та, другая, семенит в сторону гастронома, раскачиваясь на ходу вместе с носом и потертой кошелкой. Когда-то ее звали… Впрочем, это неважно. Когда-то ее звали женским именем. Простым и благозвучным.
Однажды в одной стране жил фараон. У него была золотая колесница и прекрасная жена. Колесница колесила по прекрасной, волшебной стране с бесплатной газировкой (три копейки стакан), бесплатными жареными семечками и бесплатным кремом от бисквитного торта. Кремовые завитушки, похожие на собор Василия Блаженного (я видела на открытке). Там, в этой волшебной стране, каждой старушке полагалась куча ирисок «Золотой ключик». Только успевай. В распахнутые кошелки сыпались конфеты, леденцы, шоколад. Каждой старушке полагался эскорт из вежливых девочек и мальчиков в ослепительно-алых галстуках.
Эскорт переводит старушек через дорогу и отдает честь.
– Я миленка полюбила, я миленку отдалась! – Так и есть – хлопает входная дверь, это возвращается совсем веселая дядя Степа. То есть теперь ее веселье немножечко буйное, опасное даже. Она спотыкается и произносит слова… Это такие слова, которые не следует повторять детям. Чертыхается и спотыкается снова.
– Я миленка… – Она стучит в собственную дверь. – Открой, курва старая, открой, – садится на ступеньки и плачет.
Странно, в однокомнатной квартире дяди Степы никто, кроме нее самой, не живет.
Я припадаю к замочной скважине и вижу, как шарит она по дну кошелки в поисках ключа. Всхлипывает и сморкается прямо на пол.
Однажды в одной стране жили одни люди. Обычные люди. Обычные, да не совсем. Они катались на трамваях, ходили в цирк, стояли в очередях, спускались по ступенькам. У них, у этих людей, все было как у нас. Пятиэтажные дома и темные подъезды. Лестничные клетки и тесные комнатки. Папиросы «Беломор-канал», конфеты «Золотой ключик», кремовые завитушки и полные жмени жареных черных семечек. Облигации государственного займа, сложенные вчетверо и лежащие в комоде, в стопках глаженого белья.
Белые шарики нафталина. Несметные орды клопов. Полчища рыжих тараканов. Алюминиевые кастрюли, чугунные сковородки, деревянные прищепки. Мастика. Никелированные шарики кроватей, группы продленного дня. Дворовая стенгазета, шахматный кружок. Метро, самое красивое в мире. Статуя пионерки с отбитым носом. Горн, построение, поднятие флага. Политинформация, товарищеский суд.
Это были очень счастливые люди. Насколько могут быть счастливыми те, кто ходит вниз головой. На противоположной стороне Земли, разумеется, от нас, идущих головами вверх.
Осколок
«Глянь, как зыркает. Я те позыркаю. Смотрит как волк. Нехристь». Таков был вердикт этих достойных женщин. Большая часть из них говорила на суржике, закалывала на затылке жидкую дулю, и все вместе они слились в одну полную, на тяжелых ногах, которая, кряхтя, моет полы, говорит «дывысь» и не любит меня. Просто не любит. Почему-то не любит меня, ту, которую любят папа, мама и бабушка.
К сожалению, я не очень помню. Вдруг они все-таки любили других детей. Но если бы это было так, наверняка я бы об этом помнила. Нет, не было никакой любви в мире унылых каш и тягучих киселей. Не было ее в баке с компотом из сухофруктов. Не было в толстом омлете, в жидком гороховом супе, в синеватом картофельном пюре.
Не было ее в глубоком бидоне, который волокли по коридору две хохочущие (не для меня) нянечки. Ни в тихом часе, ни в мертвом свете зимних ламп, ни в новогоднем утреннике, ни в молочных пенках, над которыми роняла я слезы неподдельного и неизбывного горя. Ну откуда же было им знать, что у нехристи этой наверняка непереносимость лактозы! И было ли в их лексиконе слово такое – лактоза?
Пытаюсь вспомнить лица. Хотя бы одной. Нет, не было лиц. Круглые расплывающиеся блики, пятна, громоздкие силуэты. Отчего старуху Ивановну с первого этажа я помню в мельчайших подробностях, отчего помню горбатую Любочку из соседнего подъезда? Я даже помню ее зятя и дылду дочь, и даже маленького несчастного Илюшечку помню.