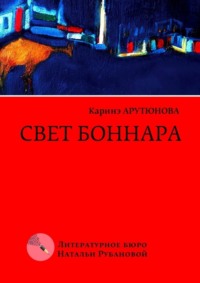Полная версия
Канун последней субботы
Не мешкая, развернула ее – впрочем, я делала это столь же поспешно, сколь бережно, – письма (это я поняла, уже разворачивая, на ходу вчитываясь, вникая) оказались от довольно близких мне людей – сказала бы, самых близких, – и что удивительно, по тональности писем, легко сопоставив даты, события, факты, я сделала весьма важный вывод. Забравшись с ногами на застеленный грубым паласом топчан, стоявший неподалеку, – а дело происходило в кабинете отца, в святая святых, – я погрузилась в чарующий мир чувств, эпитетов, иносказаний.
Странное дело. Преступницей я себя не ощущала. Счастливо улыбаясь, листала странички, исписанные порывистым папиным почерком, придирчиво всматривалась в даты, искала соответствующий дате и смыслу мамин ответ – о, я ощущала себя донельзя причастной к таинству, и потому мысли о противозаконности моих действий были весьма далекими от меня. Ведь то, что находилось у меня в руках, было очевидным доказательством того, что рождение мое стало всего лишь звеном в цепи почти случайных событий и что без этих писем (в которых… о боги, в которых, будто удивительнейший роман, развертывалась история, конечно же, любви – не родителей, а пока еще незнакомых мне людей, незнакомого мужчины и незнакомой женщины), что без этих писем, сумбурных, полных противоречий… не было бы…
Пока писались эти письма, уже (где-то там, на небесах – даже я, без пяти минут пионерка, смутно об этом догадывалась) зажигалась крохотная звезда, предшествовавшая моему рождению. При чем здесь шумовка, спросите вы, при чем здесь бульон? Да вроде бы ни при чем, – отвечу я, чуть подумав.
Вроде бы ни при чем, хотя… Это был долгий, долгий сентябрьский день. Бабушка возилась на кухне, снимала шумовкой жом (такая мутная желтоватая пена), – она снимала жом, радуясь тому, что курица оказалась, слава богу, упитанной, – варка курицы была, если хотите, миссией, судьбой, счастливым итогом состоявшейся жизни… Я, вполуха вслушиваясь в бабушкино бормотание (там было и насчет курицы, и насчет всего прочего, но об этом потом), исступленно возилась у взломанного ящика, а после, забыв обо всем на свете, упивалась романом в письмах. В нем был долгожданный ответ на постоянно задаваемый вопрос – что было до всего? Ну, до всего – до того, как появилась земля, луна, солнце, звезды, – еще до курицы и бульона, до громоздящихся одна на другую пятиэтажек, до сгущающихся осенних сумерек, до жесткого папиного топчана, до бабушкиного бормотания там, на душной кухне, до сломанного, застрявшего в замке ключа, до моего преступления и последовавшего за ним наказания (а вы как полагали?) – несерьезного, впрочем, – ну как ты могла? как? чужие? письма? читать? не говоря уже о ящике? – еще до всего, что случилось тогда и должно было случиться после.
Любовь – именно она – до звезд, луны, бульона и курицы, – она явилась причиной всему – как начало длинной-предлинной истории, в результате которой на свет появилась я – потное, виноватое, взъерошенное существо со стиснутыми кулаками – еще минуту назад потрясенное великим открытием, пожалуй, самым значительным в жизни.
Любовь к чернозему
– Знаете, я вам так скажу, не любит она землю, не любит, – произнесла она, проводив взглядом мою макушку, мелькающую там и сям между деревьями за окном.
Окно школьного коридора выходило прямо во двор, выложенный бетонными плитами, между которыми пробивались чахлые травинки. Эти травинки мы выщипывали во время уроков ботаники.
Понукаемые бабой Таней, Телегой, Оглоблей, которая страстно любила полоть. Полоть, сапать и таскать землю.
Похоже, душа ее изнывала по земле, по тяжелому крестьянскому труду, а приходилось воспитывать школьную мелкоту, заодно прививая ей, этой самой мелкоте, любовь к прополке. Сама она тоже не отлынивала. Большая, нелепая, вся в каких-то буграх и жилах, с наслаждением засаживала сапку и разгибалась, сжимая в пальцах жирный ком земли. На лице ее в этот момент наблюдался элемент явного сладострастия – она добрела на глазах, узлы морщин распускались, и если бы не огромный веснушчатый лоб и выдающийся подбородок, а еще уходящие вглубь черепа крохотные глазки, то ее можно было бы назвать даже хорошенькой.
По слухам, баба Таня была незамужем и одна воспитывала дочь, большеногую девочку с затянутыми до обморока тусклыми косичками вдоль широких скул.
Однажды я видела, как идут они рядом, большая Таня и маленькая, обе нелепые, отчаянно некрасивые. Что-то щемящее было в этом сером дождливом дне и двух не нужных никому фигурках на фоне одинаковых серых домов. Я пыталась представить себе мужчину, который, возможно, любил ее, которого любила она… Пыталась вообразить юную девушку, да, нескладную, но… желанную? Интересно, какое было у нее лицо, когда… А у него? Каким был этот удивительный человек, осмелившийся поцеловать нашу бабу Таню?
Сачков баба Таня откровенно не любила. Что-то содрогалось в ней при виде «этих задохликов», «очкариков», спотыкающихся на каждом шагу, волокущих очередное ведро с землей.
– Землю – ее любить надо, любить, – задыхаясь, разминала кусок грязи с торчащими там и сям травинками. Пальцы у бабы Тани были жесткие, узловатые, а под ногтями чернела траурная кайма.
Мне сложно было любить землю.
Не то чтобы «любить не любить», но отношение мое к сельскохозяйственным работам оказалось довольно прохладным.
Это при всем том, что возня за пределами неуклюжего серого здания была гораздо приятней, чем привычные сорок пять минут скуки…
После урока на воздухе мы возвращались в класс возбужденные, красные, – некоторые держались за животы, потому что ведра, доверху набитые вязкой землей, оттягивали плечи.
Самое смешное началось в конце третьей четверти, когда девочки, одна за другой, стали отпрашиваться с урока.
Причем смешно было бабе Тане, но уж никак не девочкам.
– Освобождение? Медпункт? (Добрая Люся Поляк из медпункта давала освобождение на три дня.) А во время войны? А в окопах? А на заводах? А на полях? Им давали освобождение?
Монументальная фигура раскачивалась у доски, а присмиревшие нарушительницы переминались с ноги на ногу.
Стоит ли говорить о том, какой камень ворочался в баба-Таниной груди при виде презренных сачков?
– Ваша дочь – типичный сачок, – угрюмо сказала она. – Вот, справка об освобождении от уроков третий раз за месяц!
– У меня действительно болел живот, – прошелестела я, вспомнив о коробке шоколадных конфет, припрятанных на майские.
– Не любит она землю, не любит. – Мама виновато потупилась, понимая, видимо, что недостаточно усилий прикладывала для того, чтобы привить своим детям истинную любовь к земле.
Что и говорить, родственников в деревне у нас отродясь не было, ну разве что в одной заброшенной деревушке с нерусским названием Шикагох, – да и земля там не чета этой – сухая, красноватого цвета, благородным черноземом, как говорится, и не пахнет.
Я не любила землю, молоко из-под коровы и ранний подъем.
Какой подъем, если до позднего вечера мы с папой слушали «Голос Америки» и «Немецкую волну»?
«Вы слушаете голос „Немецкой волны“ из Кельна», – этот резковатый женский голос я любила более всего.
О какой ботанике могла идти речь, если коробка недоеденных конфет и застланный жестким паласом топчан в папином кабинете сулили полную событий взрослую жизнь, далекую от школьных уроков, неподшитых воротничков и исполосованного алым дневника?
Надо ли говорить о том, что познания мои о жизни были довольно сумбурными?
– Здравствуйте, девица, – как поживаете, девица? – Я обожала гостей, которые не сюсюкали и не делали большие глаза, а вели при мне довольно взрослые беседы. Некоторые из них садились прямо на пол, а чай пили без сахара, из круглых белых пиал. Чай в нашем доме всегда пили из пиал. Из маленьких узбекских и глубоких японских.
В общем-то, папе даже не требовалось произносить то самое слово. Вполне достаточно было взгляда. Чтобы понять – чужой.
Чужие приходили и, как правило, задерживались допоздна. После их ухода мама проветривала комнату, а папа придвигал кресло к укоризненно молчащему приемнику.
Сквозь скрежет и вой пробивались звуки с другой планеты, на которой не предполагалось ведер, любви к чернозему и незваных гостей.
Ковчег
Это был очень хороший ковчег. Новенький, надежный, с гладкой обшивкой.
Мы добирались до него долго, целых семь остановок.
Видимо, я тогда уже выросла – и красный цвет трамвая не вызывал неукротимых рвотных спазмов. Мы ехали долго, а за окнами проносился редкий лес, многоэтажные здания. Это был новый район, он строился для новой и светлой жизни.
– Для наших детей, – с гордостью сказала мама и поцеловала брата в макушку. И посмотрела на отца. В той, прежней жизни оставались палисадник, школа, обезьяна Жаконя с оторванным ухом – не везти же весь хлам с собой!
Остались дворовые друзья и враги, Ивановна с первого этажа, соседка Мария, кинотеатр на углу, пивнушка, подвал, в котором здорово прятаться и играть в гестапо.
В прежней жизни оставалась бабушка и ее муж, которого она сама называла не иначе как «он» и «старый дурак». Иногда «старый дурак» трансформировался в «старого пердуна».
– Возьми, пока старый дурак спит! – Мятая рублевая бумажка проделывала долгий путь, из внутреннего кармашка «его» пиджака в карман бабушкиного фартука, а оттуда – в мою ладонь.
Бумажный рубль полагалось тратить. Он не влезал в копилку и не гремел оттуда тяжело и многозначительно, как копеечные медяки. Лежал в кармане и время от времени напоминал о себе нежным шорохом.
На рубль можно было купить… Ох, на рубль можно было владеть целым миром. Сколько пачек мороженого, сколько шоколадных конфет, а леденцов-цилиндриков, тянучек, воздушных шаров. Не говоря уже о сладкой газировке. Или томатном соке. Нет, яблочном. Или все-таки томатном?
От обилия возможностей кружилась голова.
Все это были такие смешные, маленькие удовольствия… Такие незначительные по сравнению с главным. Каким, спросите вы? А вот каким. Например, улучить момент, когда мама озадаченно роется в кошельке, а потом незаметно вздыхает и отводит глаза от прилавка. Небрежно протянуть сокровище и потом долго, весь день и весь вечер чувствовать себя… Понимаете?
В прежней жизни оставалась смежная комната, забитая книгами и стеллажами, выходящая окнами на бульвар Перова.
Комната была маленькая и солнечная, во всяком случае, солнечные зайчики в ней не переводились.
Окна выходили на бульвар и шоссе, и, не выходя из дому, можно было быть в курсе всех важных событий. Дорожные аварии, свадебные машины с куклами и шарами, похоронные процессии, пьяные разборки у гастронома, – вот через дорогу семенит соседка из первого подъезда, с кошелкой, это если с базара, а если с авоськой, то из овощного.
В квартире на Перова было весело, потому что скучать было решительно некогда.
Добрая ссора – соль земли. А что вы скажете о хорошем скандале?
Скандалили все. Танькины родители с третьего, Мария с пьяным мужем за стеной, Ивановна снизу, бабушка с «ним», бабушка с мамой, мама с бабушкой. Слава богу, повод находился всегда.
– Не слушай ее, – бабушка заговорщицки сжимала мою руку, – она малахольная, твоя мама.
Боевые действия разворачивались стремительно. «А вот тебе», – бабушка подскакивала на удивление резво и торжествующе выбрасывала вперед стиснутый кулак. Это было похоже на танец.
На пантомиму, балет и оперу одновременно. «А вот тебе», – маленькая смешная дуля описывала круг, и я не помню уже, чем именно отвечала ей мама, зато помню истошный вопль, который, несомненно, слышали все без исключения соседи. – «Ой! держите меня!» – бабушка хваталась за сердце и медленно опускалась… куда? куда попало опускалась она, изумленным взглядом обводя стены, призывая в свидетели все застывшее в смертном ужасе человечество.
О бабушкином муже, мамином отчиме, я помню только намотанные на больные ноги тряпки и выражение «жмать масло», которое обозначало весьма странное действие, носившее явный садистский подтекст. Острые болезненные щипки – таким образом бабушкин муж занимал ребенка, то есть меня.
Мама с трудом терпела его и все время устраивала сквозняки, потому что ей всегда пахло «старым пердуном», а бабушка кричала, что она нарочно, назло делает сквозняк, что в квартире ничем таким не пахнет, а пахнет нормальной жизнью – супами, кастрюлями, болячками.
Иногда все же наступало затишье – я мирно играла в бабушкиной комнате, а «старый дурак» говорил «жмать масло» и делал мне козу. Это случалось накануне дней рождений и когда транслировали футбольные матчи.
Во время матчей вообще было весело. С певучим хохотом вбегала соседская Мария. Она забегала узнать, не здесь ли ее Петро. И напомнить, «шоб дядя Миша ему больше не наливал». А дядя Миша, конечно же, наливал, и Мария прибегала во второй раз. На этот раз уже не с пустыми руками, а, допустим, с тарелкой холодца и огромными мятыми огурцами, потому что где наливают, там и закусывают, верно?
Во время всей этой шумной беготни я монотонно раскачивалась на ручке двери, а папа писал диссертацию. Он ловко отбивал чечетку на новенькой пишущей машинке и на любой вопрос отвечал: м-м-м… Мама одевала меня, набрасывала жакет, и мы долго гуляли по бульвару Перова, под шум поющих тополей и вопли футбольных фанатов.
Через дорогу я поглядывала на наши окна. В одном размахивали руками и кричали протяжное «гоооол!!!», а в другом – громоздились шаткие книжные полки и маленькая фигурка перемещалась из угла в угол и замирала в задумчивости, склоняясь над кипой бумаг.
* * *Первым полагалось внести котенка, но котенка не было, и потому первой вошла мама. Она вошла неуверенно, озираясь по сторонам, каждую минуту готовая к отступлению.
Но отступления быть не могло. В каждой комнате мы останавливались и кричали: ура! Обнимались и опять кричали. Кружили охрипшие, восторженные, стояли неподвижно, взявшись за руки, потом вновь принимались бегать и кричать. Пахло свежей побелкой и больше ничем. Наверное, так пахнет счастье.
Первую ночь мы спали на полу, на расстеленных как попало коврах и одеялах. Это было похоже на табор. Настоящий цыганский табор. С разбегу я нырнула в постель и долго лежала в темноте, вслушиваясь в шепот и смех. Ну точно как маленькие, снисходительно подумалось мне. Подумалось только на мгновенье, потому что это был очень длинный день. В прежней жизни оставался ящик со старыми игрушками, балкон, увитый виноградной лозой, школа через дорогу. Осталась сумасшедшая Валечка из первого подъезда, слепой старик у дороги, воробей, погребенный в четверг под ивовым деревом. Нашествие гусениц, свалка за домом, участковая Ада Израильевна, учебники за первый класс, красное платье, из которого я выросла за лето.
Впереди было долгое плавание, и наш маленький корабль раскачивался вместе с книгами, пластинками, собаками, виолончелью, вместе с детскими обидами, страхами, снами, с утерянными дневниками, невыученными уроками, – раскачивался, но упрямо плыл – влево-вправо, вперед-назад…
Карусель
Время от времени она поднимала на меня глаза и восклицала – иногда восклицала, а иногда выпевала протяжно, смакуя каждую букву: мирзолзайн… Я, конечно, понятия не имела, что же такое это самое «мирзолзайн», но ощущения были приятные. Это было какое-то специальное, возможно даже волшебное слово. Оно, будто кокон, обертывало меня и подбрасывало… легко, как пушинку, и я, без преувеличения, казалась себе неуязвимой.
– Мирзолзайн, – пела бабушка, жонглируя нехитрой утварью на нашей кухне, выходящей окнами прямо на школу и пролегающий между домом и школой бульвар. Тут у меня все было как на ладони. Весь мир.
Какое колесо обозрения? По шоссе (между бульваром и школой) весело пролетали автобусы – однажды и я улетела на одном из них и, вцепившись в поручень, тряслась, точно заячий хвост, – автобус уносил меня в даль далекую, заповедную, – до сих пор не могу понять, что же вынудило меня пойти на этот отчаянный шаг, согласиться на предложение полудруга-полуврага, коварно заманившего черт знает куда под предлогом игры в казаков-разбойников, – уже и не вспомнить, в каком тумане возвращалась я домой и какими прекрасными, вырастающими словно из доброй сказки казались родные пятиэтажки с балконами, увитыми хмелем и плющом, – а вон и наш, синий, на котором стояла, подобная капитану дальнего плавания, или штурману, или мичману, или верховному главнокомандующему, – стояла, будто изваяние, приложив козырек ладони ко лбу, кто бы вы думали?
У нее уже и сил не оставалось всплескивать ладонями, выбегать во двор, выпытывать у всезнающих соседских старушек… Казалось, все вдохи, выдохи, причитания ушли в одно смешное, непонятное слово, которое, как охранная грамота, сопровождало меня в скитаниях по чужому и страшному микрорайону. Наверное, оно сверкало у меня во лбу.
Любимых детей видно издалека. Что-то такое они несут в себе… или носят – похожее на амулет, зашитый в потайном кармашке.
* * *Однажды в нашем доме на Перова завелась жаба. Огромное, пупырчатое, жадное существо тускло-зеленого цвета, с прорезью жадного рта, – с неизменным энтузиазмом оно пожирало все – медные монетки, серебряные рубли и мятые бумажки достоинством в рубль или даже три.
Мне нравилось трясти ее, вслушиваясь в шорох и звон, и воображать себе несметные сокровища, которые, уж будьте мне покойны, я найду на что истратить! Иногда я пыталась просунуть указательный палец в щель ее рта, но жаба была начеку и не спешила расставаться с богатством.
Она стояла на почетном месте, вытаращив глаза. И ждала. Ее зрачки следовали за каждым входящим. Казалось, еще немного, и она щелкнет челюстью. Она жирела с каждым днем – белесое брюхо ее раздувалось, а глаза вылезали из орбит. Бедная, бедная жаба! Предчувствовала ли она свою судьбу? Свою бесславную и скоропостижную кончину?
Проходя мимо жабы, бабушка жестом фокусника выуживала свернутую бумажку и, озираясь по сторонам, подмигивала – мне, или ей, или обеим вместе, но однажды, когда вспоротая и поверженная хранительница сокровищ лежала на боку, а по столу перекатывались монетки и шуршали рубли, я без труда узнала эти, меченые, свернутые в трубочку… Их было больше остальных.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.