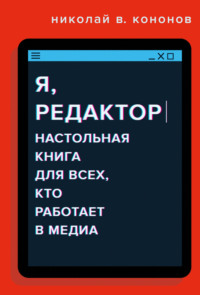Полная версия
Ночь, когда мы исчезли
Чего тут узнавать-то, сначала казалось Иоахиму. Он всё честно рассказал следователю. Настроение было хуже некуда, скоро исполнялось сорок, и это давило на Иоахима, тем более дела шли так себе: его фирма обанкротилась, и сотрудникам не выплатили компенсацию. Точнее, должны были выплатить, но гадко увильнули.
Иоахим остался без работы и без денег, а за год до того жена увезла крошечного сына и подала на развод. Он намеревался продать автомобиль и отмывал на пустыре грязный багажник, когда сзади подошли двое – как выразился судья, «немец с польскими корнями и переселенец из Вьетнама, ожидавший гражданства». Вдалеке маячило общежитие для переселенцев. Немец предложил ему отсыпать им немного денег в качестве штрафа за загрязнение природы. Когда он отказался, переселенец вдруг издевательски и угрожающе приблизил к нему своё лицо, и Иоахима охватила ярость. Она как бы отшвырнула его вглубь багажника, где Иоахим вмиг обессилел и будто из темноты наблюдал, замерев, как руки сами по себе, без его указа, хватают домкрат с острыми стальными краями и бьют, бьют, бьют сопротивляющиеся тела.
«Вот и всё. Я в буквальном смысле вернулся в себя в полиции и ничего не скрывал от следствия. Да, это было безумие. Азиаты всегда вызывали у меня смутную тревогу, но до того дня я никого пальцем не тронул. Драки были для меня недопустимы. Мать, которая натерпелась в своё время от отца, поддерживала меня и говорила: слава богу, мы живём в стране, которая учится договариваться».
«Подождите, – сказала Светлость, – вот и первый вопрос: почему те, кого вы величаете азиатами, вызывали у вас нервозность?»
И покатилось. Иоахим стал осторожно, как сапёр, исследовать память и вспомнил, что отец несколько раз вёл себя агрессивно со «светлокожими людьми неевропеоидного типа».
Он страдал чем-то вроде тревожного расстройства. Проверял, закрыта ли входная дверь на два замка и цепочку. Однажды услышал в кафе чей-то резкий голос, вскочил, опрокинув стол, и уставился на говорившего так, что тот закричал, что подаст на него в суд. После этого мать забрала ребёнка и сбежала в другой город. Как впоследствии поступила и его, Иоахима, жена. Мать никак не объясняла их развод и лишь единожды обмолвилась, что отца сильно ударило войной, но она не хочет вспоминать, и разбираться тоже не хочет.
Вспоминая убийство на пустыре, Иоахим понял, что безрассудное деяние зрело в нём давно и после пробуждения в полиции он почувствовал облегчение и свободу от чего-то. Но чего?
Сколько эту шахту ни копай, всё равно упираешься в непроходимую породу. Иоахим понял, что надо узнать об отце больше, а он не знает ничего, кроме того, что тот работал химиком где-то под Брауншвейгом. Никаких иных деталей сообщить Светлости Иоахим не смог. Однако, чтобы не потерять собеседника, он упомянул, что если бы тот навёл справки от его имени, то сколько бы увлекательного нашлось!
Светлость клюнула, взяла все наводки и отправилась на поиски. С тех пор они встречались раз в месяц, и Иоахим узнавал всё новые и новые детали. Отец был почвоведом, руководил лабораторией спектроскопии в институте сельского хозяйства. Его младшие коллеги поведали Светлости, что отец Иоахима был справедлив, хотя и мягковат, и на застольях рассказывал забавные анекдоты из своей службы на Восточном фронте, которую нёс в должности переводчика.
Но дальнейшие раскопки тоже уткнулись в стену. Никого из родственников не нашлось, и тогда Иоахим спросил Светлость: а что вас так заинтересовало в моём случае? Та ответила длинным рассуждением о «трансгенерационной травме» – некоей дерьмовой переделке, которая может случиться с предком и таинственным образом повториться в жизни его потомков. Как это работало, Светлость не смогла объяснить, хотя изложила массу случаев, когда внуки выживших в концлагере евреев испытывали кошмары, в точности похожие на прародительские.
Всё это звучало как пересказ бульварной прессы, и Иоахим, конечно, попробовал вспомнить что-нибудь этакое, но не смог. Тут ещё и Светлость откланялась писать диссертацию, и он на два года переместился к фрау Пройссе, а та предпочитала расспрашивать о будущем. Как вы видите своё будущее? Да никак. Сидеть ещё четыре года.
Светлость вернулась в конце срока, якобы провести ревизию прогресса господина Бейтельсбахера, но вместо ревизии сообщила, что нашла кое-что интересное в его, Иоахима, личной истории, и посоветовала в день освобождения отказаться от любого транспорта и просто пройти два километра по дороге до автомастерской.
«Кажется, вы обещали меня порадовать, господин психолог», – вспоминает Иоахим. «Истинно так, – отвечает Светлость, – откройте ящик». Щёлк-щёлк, замок, в ящике четыре магнитофонные кассеты, стянутые резинкой, и диск.
«Это музыка?» – «Нет, это ваш отец». – «Что?» – «Я нашёл в фейсбуке… Это сайт в интернете, где общаются люди, например родственники… Я нашёл там группу „Бейтельсбахеры“. Ваших родных не отыскалось, но год назад я увидел объявление о том, что новый хозяин маленькой виллы в Брауншвейге нашёл на чердаке кассеты. В начале первой же записи прозвучала фамилия человека, записавшего свой голос, и хозяин решил найти его потомков… Я не потомок, но деньги и обязательство не использовать записи в публичных целях исправили этот недостаток. Я переписал кассеты на диск, однако слушать не стал. Если хотите, можем сделать это вместе – я готов везти вас до дома, к вашей матери. А если не хотите, возьмите диск с собой».
«Я должен подумать», – говорит Иоахим после паузы длиной в крик. Вдруг он узнает что-то, из-за чего, возможно, и не захочется ехать к матери.
Включайте, говорит он Светлости через секунду, и плеер всасывает в себя диск.
…Чтобы узнать, внятен ли мой голос и хорошо ли вы меня слышите, я расскажу о степи.
Представьте море, поднимающееся к небу, и вас, человека, стоящего на берегу и глядящего, как горизонт притягивает корабли подобно магниту. А теперь то же самое, но вместо воды – травы, невысокое разнотравье. Шелестящие гривы, густые как косы. Бесконечная тёплая земля. Битва запахов. Узоры ветра. Птицы кричат из мяты, лимонника, шалфея. Мир без хозяина.
Ты падаешь и лежишь или пробираешься через полынь, раздвигая стебли и пьянея. Миллионы шершней и жужелиц возносят молитвы грозовому небу. Степь-заступница. Степь-колыбель. Степь-чрево.
Потом небо раздирала молния, и следующие минуты были самыми сладостными, потому что так, как пахли сухие травы, тронутые дождём, не пахло ничто и никогда. Я лежал и вдыхал всё, что происходило в эти минуты между влагой, чернозёмом и бушевавшими травами. Сначала воздух сгущался, и я дышал с осторожностью – столь терпкими оставались жар шалфея и горечь полыни. Это было как соитие, заканчивавшееся победой неба, с которого обрушивались стены воды, хлеставшие по телу подобно плетям.
Тогда я разворачивался, и бежал, задыхаясь, на холм, и не оборачивался, чтобы Бог, как пугал меня дед, не ударил молнией гордеца, не желавшего пригибаться к земле. Я не просто нагибался, а скрючивался в три погибели, а если било неподалёку, вовсе полз на четвереньках.
Я боялся не столько сверкающего зигзага, сколько взгляда Бога, потому что тот был бесконечно строг и знал все мои тайные мерзости наперечёт. Земля сотрясалась так, будто он не просто знал, а ещё хотел уничтожить меня прямо сейчас. И когда я доползал до вершины холма, то видел, как на противоположном его склоне бушевало такое же море трав, завешенное марлей ливня, но с островом – горсткой домов и кирхой.
Страшнее всего, грозно и бессмертно, пахла степь именно тогда – во второй половине июня, когда до исхода лета было далеко, но и цветение кончалось. Степь набирала силу и давала читать себя, как книгу. Чуть в стороне чернели соломенные крыши еврейской колонии Фрилинг, а ещё дальше на все три десятка километров не было селений, только распадки и пересохшие русла. И потому с холма над моим Розенфельдом не было видно ничего, кроме волн, ходивших по земле с дрожащим маревом над ней.
Когда я рассказываю о степи, сердце моё плавится от любви, и я не надеюсь вернуться в Розенфельд, но мне достаточно и прошлого…
Стоп, уже многовато. Мы хотели проверить, что получается… Так, и что же у нас здесь? (Пауза. Треск клавиши. Шуршание. Ещё клавиша. И ещё. Голос.)
Неплохо. Я сяду чуть дальше, вот здесь, но вообще-то я не собирался сдерживаться.
Сегодня 7 июня 1965 года, и завтрашнее утро станет началом конца. Горько это говорить, и, хотя я вовсе не уверен, что человека по фамилии Беляков прислали за мной, всё равно он вряд ли тот, за кого себя выдаёт, – почвовед, явившийся в наш институт с советской делегацией. С тех пор как я перевёл труд доктора Кононовой о гумусовых кислотах, она не впервые приезжает сюда, и мы переписываемся, но почвоведа Белякова она почему-то ни разу не упоминала. И я ни с чем не спутаю зигзагообразный шрам на его шее, под ухом. Он явно узнал меня, и скоро Господь наконец достанет меня своей молнией. Поэтому я, доктор химии Ханс Бейтельсбахер, намерен заполнить эти кассеты пока ещё имеющейся у меня жизнью и сунуть их вон туда, под балку, в нишу за доской.
Если меня арестуют или Беляков воткнёт в меня авторучку с ядом, кассеты обнаружит новый жилец. Содержание находки явно наведёт его на мысль, что кассеты можно продать в «Шпигель» или «Вельт». А если случится чудо и Беляков всего лишь принудит меня к какой-нибудь глупости вроде шпионажа, я подумаю, что делать с кассетами: может, оставлю, а может, уничтожу.
В любом случае я ценю возможность оставить отпечаток себя – такого, с которого не надо счищать слои страха и который лишён искушения приукрашивать сражения, когда автор прятался в вонючем окопе…
Почему, работая с реставраторами, я защищал метод анастилоза? Потому что, когда память распадается, как развалина, наиболее честный способ воссоздать прошлое – собрать разбросанные блоки и фрагменты и сложить здание из них. Ничего не добавлять, даже если зияют дыры и хочется слепить уникальные элементы заново.
Итак, я попробую выговориться. Сын вряд ли захочет что-то узнать обо мне, так что сыпать дидактизмами не перед кем. Непрерывное же говорение выдаёт с потрохами, а прерываться я не намерен, так как у меня всего одна ночь…
Ничего кроме степи я не любил. Там, где мы жили, степь была щедрым исключением из скудости мира. На Рождество мы ходили петь stille Nacht, heilege Nacht за околицу – туда, где под луной выгибались барханы, точно в палестинской пустыне. Кто-то из старших, высмотрев звезду, проводил от неё линию вниз, и все силились разглядеть там сарай с пищащим младенцем.
Нейфрейденталь, Паульсталь, Гелененталь, Гнаденфельд, Ной-Рорбах – все они были близнецами. Широкая, как поле, улица, вытянувшиеся по струнке дома из светлого кирпича с черепичными крышами. Конечно, церковь. Зернохранилище. У задней его стены мы встречались совсем маленькими, чтобы играть в «Чёрного Петера» или «Воскресение Лазаря». Впрочем, это не первое, что я помню.
Первое другое. Я сижу у стола со льняной скатертью, и вокруг все шумят, все нарядные, на столе огромный свежевыпеченный хлеб, и вдруг они затихают, отрываются от еды и смотрят в угол. Я поворачиваюсь и вижу аиста с длинным носом из соломы, который рассматривает меня, выглядывая из-за резных напольных часов, – и вдруг человеческой рукой надевает на переносицу очки. Дальше аист огибает часы и подбирается ко мне, глядя пристально и грозно. Я дёргаюсь, съезжаю со стула и плачу. Бейтельсбахеры хохочут. Дядя Ханс, явившийся в отпуск из кавалергардского полка – туда брали только блондинов, – стаскивает с себя лохмотья. Почему-то я поверил, что перья аиста могут выглядеть так. Мать, сёстры, Катарина Фишер, выходившая замуж за моего брата, покатываются ещё сильнее. Карл хватает нож, бросается на хлеб и разрезает его пополам. Все танцуют, а я лежу на лавке и думаю: а что, если лохмотья – это перья настоящего аиста и его сородичи явятся ко мне ночью, чтобы заклевать насмерть?
Фишеры приходились нам какими-то двунадесятыми родственниками. Степь не жаловала разнообразием родов и фамилий. Все из Вюртемберга и Эльзаса, все жили здесь сто лет и на родном языке говорили едва ли не реже, чем на русском, – причём ещё до того, как школам запретили учить на немецком.
Отец держал мастерскую, где колонисты чинили свои земледельческие аппараты, и именовался инженером. На самом же деле он не любил возиться с паровиками и помогать соседям выбрать сноповязалку. С гораздо большей страстью над его плечом склонялась к чертежам моя мать, дочь инженера Крайса, Магдалена. Предок, которому не удалось произвести на свет мальчика, позволял ей вникать в тонкости ремесла и помогать.
Однажды я увидел, как мать отодвигает отца от стола, на котором была выпотрошена сломанная молотилка, и указывает ему вглубь сочленения шестерёнок. В другой раз она и вовсе что-то скручивала. Они проводили много времени в домике, который служил мастерской, но, чтобы не передавать своё чудачество детям, которые разнесли бы всё соседям, выгоняли нас. Из-за предрассудков они таились и поддерживали такой вид, будто отец – великий инженер, а мать помогает ему, как бы глядя на поломку глазами заказчика. И мне, и Карлу, и сёстрам была ясна эта игра, но, поскольку несоблюдение её правил вызывало у отца бешенство, мы соглашались хранить эту нелепую тайну.
Кроме этого, отец был ужасно озабочен растениеводческими хитростями. Кажется, он прививал сливу к вишне. Слухи о чудотворце Бейтельсбахере вышли за пределы колоний, и однажды в Одессе на выставке его поймал за рукав человек, чьи борода и усы образовывали нечто вроде пагоды. Его звали Фёдор, он был младшим из братьев в семье князя Лизогуба. Семья владела сотнями тысяч моргенов земли под Черниговом, утомилась от парков с беседками и статуями и увлеклась селекцией редкосортных фруктов. Лизогубы отчего-то не сомневались, что отец примет их предложение переехать со всей семьёй в городишко Седнёв и управлять их садами. Отец объяснил им, что с почтением осмотрит угодья и даст все необходимые рекомендации, может навещать сады, но уезжать из степи-колыбели – нет, ни за что.
Пожалуй, это оказалось единственным, в чём мы были едины. Отец обожал степь и часами исчезал в ней на двуколке. А я собирал травы и цветы в гербарии, из-за чего подвергался насмешкам сестёр и Карла («Хансу мало пыли под кроватью, надо добавить ещё сушёной дряни»). Таких, как отец, в колонии считали пустомелями. Пока он не собрал урожай персиков и не раздал их лично каждому соседу, над его саженцами потешались. Колонисты чрезвычайно ценили капитал, всё меряли деньгами – а смородина, скрещённая с вишней, выглядела как пустой каприз. В конце концов, соседи ценили независимость и самостояние Бейтельсбахеров и считали отца чудаком, но не изгоем.
Тогда, на раздаче персиков, мать ходила с ним и торжествующе смотрела, как соседи принимают дары. Её звали молчальницей. В двадцать она почти не посещала маасштубу, где молодёжь, вырвавшаяся из-под присмотра, играла в целовальные игры. Казалось, что другой страсти, кроме как разбираться в механизмах, у неё нет, но это было не так. Из отца с трудом можно было вытащить и пару слов, и главным собеседником матери стал не он, а патер Рохус, который нашёл в ней оппонента в толковании Евангелия. Кажется, патер был поклонником того метода обращения, когда пасомого искушают и заставляют подвергать сомнению какое-нибудь дискутабельное место в Писании, чтобы затем ловко доказать обратное.
Как я понял позже, Рохус не просто ценил мать как прихожанку, по-настоящему горячо переживавшую за дело Христово, а любил. Возвращаясь из дома причта, мать имела вид астматика, которому дали морфия. Впрочем, Розенфельд был крошечным, и даже если они имели более интимные отношения, нежели экзегетические, то на людях всё равно держались отчуждённо.
Мать с её строгостью редко открывалась мне дольше, чем на те утренние минуты, когда мне было разрешено класть ей голову на колени. Она гладила мои волосы. Однажды, вернувшись от патера, мать сказала: «Бог есть время, и знаешь, чем люди наслаждаются, когда молятся? Чувством, что мир не начинался и не кончится, а был и будет всегда в одном мгновении. Бог наблюдает, что было двести лет назад, одновременно с тем, что происходит сейчас с нами. Время – как вода в купели, где купал меня твой дед».
Когда мне исполнилось восемь, я увидел воду. Меня отвезли в Одессу к родственнику, также Бейтельсбахеру, архитектору. Тот согласился сдать мне комнату в одной квартире со своей сестрой, достойной отдельной арии. Имея жильё, я мог посещать училище Святого Павла, основанное немцами. Во время войны училище избавилось от иностранцев среди учителей – кроме тех, кто преподавал язык, – но не потеряло в жестокости. Весь день нас караулили швейцары и, чуть что, тащили учеников, не повиновавшихся преподавателям, в карцер или к директору.
Почти шесть лет я провёл в Одессе, но так и не понял причин восторга, который она вызывала у многих путешественников. Одесса была грязна, пахла овощной лавкой, помоями и удушливыми цветами, чьё название я забыл. Здесь всегда было много банд. Квартира дяди находилась на Старопортофранковской, недалеко от училища, и по дороге домой меня грабили всего дважды. Здесь не очень-то любили евреев, греков, а после того, как началась война, стали прихватывать и немцев. Банды стреляли в полицейских. Затем стали бунтовать рабочие. Их демонстрации забрасывали друг друга камнями.
Море и революция меня не интересовали, и я проводил время, свернувшись как кот на кровати и читая книги из библиотеки архитектора.
Весной восемнадцатого года мы с отцом сели в фургон и поехали к Лизогубам. Кончалась война, Украина оставалась ещё немецкой. Дядя Ханс сгинул где-то на севере, но все надеялись, что он в плену и скоро ему разрешат вернуться. Большевистская республика родилась в Одессе и так же быстро задохнулась. Ночуя на станциях, где тарелки прилипали к столам, мы доволоклись до городка Седнёв. Впервые оказавшись вне степи, я изумлённо наблюдал густолесье. Нас поселили во флигеле с видом на статую поэта по имени Тарас Шевченко, с которым дружил старый Лизогуб.
Несколько дней отец осматривал угодья с управляющим, а я носил за ними землемерный циркуль. Мы справились быстро, так как почва уже подсохла, а трава ещё не поднялась. Князь Фёдор велел накрыть столы прямо на лугу, за которым колыхались освещённые закатом сосны. Отец начертил план и описал, как следует разбить сады, как за чем ухаживать и какой урожай ждать.
Солнце садилось, но ещё лило сквозь кроны деревьев густейший свет. В этом зареве носились и падали в траву чёрными метеоритами майские жуки. На горящем небе они выглядели так отчётливо и заманчиво, что я вернулся в комнату, вытряс спички из коробка и вернулся с готовым вместилищем добычи.
Между князем и отцом развязался спор. Я не запомнил его точно, но смысл уяснил. Всё-таки мне было почти тринадцать, и отец несколько раз вёл со мной разговоры после чтения газет.
«Украину ждёт независимость, – говорил Лизогуб, – мы выгодно расположены и будем кормить Европу. С войной господство империй кончилось и больше не вернётся. В ближайшее время освободятся прибалты, чехи, словаки, галисийцы. Кто-то отстоит свои нынешние границы, кто-то возьмёт автономию, но никому не нужна ещё одна война. Больше нет сил, которые могут удерживать свободные народы».
В коробок лёг жук с отливающим зеленцой крыльями. Поймать его было не сложно. На освещённом уходящим солнцем небе можно было разглядеть каждое насекомое, и я выждал, пока в траву спикирует самый крупный экземпляр. Он яростно жужжал и бился об стенки.
„«Понимаю ваши надежды и надеюсь, что они сбудутся. Но империи не откажутся от господства и, конечно, продолжат делить Европу на части. Большевики сейчас слабы, но, если им удастся удержать власть, отпускать Украину они не захотят». – «Ещё неизвестно, останутся ли они у власти. К тому же армия ослаблена войной, и крестьяне против них. Нас же поддерживают Австрия и Германия. Нам предстоит использовать нашу богатую землю более разумно, и вы с вашими успехами в селекции могли бы этому помочь. Кстати, скоро я еду в Киев, гетман назначает меня председателем правительства».
Жук не переставал елозить, и мне пришлось поискать берёзовый лист, чтобы завернуть его и тем утихомирить.
«Я человек обычный, мой дед был фермером в Эльзасе. А вы смотрите вперёд, видите будущее. Вам кажется, что оно вблизи, вот-вот, здесь, рядом. Но крупные хищники ещё не заснули». – «Ну хорошо. Сами-то вы что станете делать, если большевики или французы съедят Украину? До ваших колоний доберутся и те и другие». – «Мы незаметны, ничего не требуем и ничем особенным не владеем. Так ли нужны им колонии? Степи хватит на всех».
Несколько минут жук молчал, и я подумал, что можно было бы бесконечно подкладывать ему листы и тогда он бы доехал с нами до Розенфельда. Я погнался за ещё одним на край луга, споткнулся о прятавшуюся под травой ветку и порвал штаны.
Когда я вернулся к спорщикам, князь увещевал отца: «Очень жаль, герр Бейтельсбахер, подумайте ещё. Ваши таланты могли бы расцвести в подобающем масштабе». Отец отговаривался, что ему хватает своей земли, но было видно, что в уме его составлялось и обдумывалось уравнение, в котором и мы, семья, и другие колонисты – лишь один из членов.
Небо погасло, и падение насекомых прекратилось. Князь с интересом расспрашивал отца о фруктовых садах, а я отправился спать. В сумерках оплывала круглая голова поэта. Я заглянул в коробок. Жук шевелился и пробовал вылезти. Пришлось запихнуть его обратно.
В дороге отец разговорился. По его мнению, Лизогуб был господином, совершенно не понимающим жизни «народа в пути», то есть колонистов. Сила наша заключалась в способности затеряться, существовать сепаратно, не приникая к власти и храня связь с родиной. На родине, впрочем, творилось чёрт знает что: к власти рвались коммунисты. Условия мира – если заключать его сейчас – были бы унизительными для Германии, Эльзас того гляди отойдёт Франции. В такое время надеяться, что Украина останется столь огромной и самостоятельной, – пф, лучше подождать, куда задует ветер. Дураки верят, что где-либо возможен рай. Это обман, рая на Земле нет, а война и вовсе показала, что люди сошли с ума. Новый век зовёт нас убивать друг друга всё более изощрёнными способами, не размышлять слишком долго, не жить медленно, как в старину. Переждать это время на отшибе, не теряя себя, – вот единственный выход.
Наконец мы добрались до дома. Утром я взял брюки, чтобы отдать их зашивать, и нащупал в кармане спичечный коробок. Берёзовый лист был доеден, жук был мёртв.
Так же умерло в те месяцы материнское время-бог и отцовское время-ракушка, где будущее слипалось с прошлым и вытекало из него. Родители упустили момент, когда прошлое и настоящее разлепились и между ними образовалась пропасть, расщелина, устремляющаяся к самому центру Земли.
Раньше, чтобы защититься от бед, можно было положиться на опыт и бежать от вредных перемен, гремевших за пределами степи. Но теперь из дедовского опыта ничего не следовало, всё менялось столь молниеносно, что даже понимание сути этих изменений не давало никакого преимущества. Требовался дар не понимания, а предсказания, которым осевшие в степи беглецы от мира не обладали. И как при оползне километры почвы отрываются вместе с домами, чтобы уплыть в море, так и наше настоящее оторвалось от прошлого.
Австрийцы устали от войны и знали, что скоро уйдут. Их генералы доверяли колонистам, и в Розенфельд и другие колонии явились инструкторы и повозки, гружённые пулемётами и ружьями. Всех взрослых мужчин, включая патера Рохуса, научили стрелять и держать круговую оборону. С соседями из Нейфрейденталя договорились о связи в случае нападения.
Украина выказывала недовольство вооружением колонистов, но деваться ей было некуда. Осенью немцы бросили Киев, и правительство Лизогуба приготовилось обороняться от большевиков. Великая война кончилась миром, но в колониях не спешили радоваться. Австрийцы ушли, и мы остались один на один с большевиками, вновь перехватившими власть в Одессе.
Нам действительно везло: колонии были небольшими и стояли вдали от важных дорог. Ополченцы редко использовали оружие, разве что против залётных банд. Ханс так и не вернулся с войны, а Карл с Катариной Фишер обосновались в Розенфельде. В Одессе же шли бои, и, не дожидаясь осени, отец забрал мои документы из гимназии, рассудив, что безопаснее мне будет доучиться в Нейфрейдентальском училище.
Директор Нольд оказался не таким мучителем, каким мне представлял его брат Карл. Нольд распознал мою любовь к степи и, поскольку программа училища ничего общего с ботаникой не имела, посоветовал единственно возможное: сосредоточиться на химии и поступать в Новороссийский университет, чтобы изучать почвы.