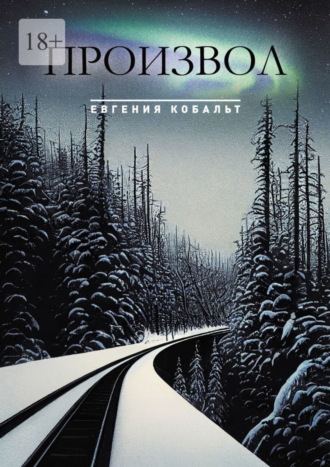
Полная версия
Произвол
Енисей причудливо изгибался у Игарки полукругом. С приходом сумерек он казался глубже, холоднее, но вместе с тем и заражал своей умиротворенностью. Пока пристань кишела народом, по ту сторону берега чернели безмолвные, бескрайние просторы лесотундры. Я различала лишь острые верхушки деревьев, клиньями врезавшиеся в небосвод. Этот город, пусть и маленький, был спасительным буйком, нет – уютной колыбелью среди дикой, беспощадной к людям природы.
Когда старшина, начальник конвоя, досчитался всех из списка, нас поместили в Игарский пересыльный лагерь, а уже со следующего дня стали распределять на работу. Лагпунктов тут было много, по одному через каждые 10—15 километров. Большинству, в том числе и Наташе, предстояло отсыпать железнодорожное полотно. Пару сотен женщин из нашего этапа направили в так называемые «Уклад городки», где занимались укладкой рельсов и шпал. Меня вместе с еще несколькими десятками зэчек определили в женскую лесоповалочную колонию №25.
«Лес валить – это как? Разве женщины это умеют?» – сомневалась я, разглядывая свои тонкие, нежные руки.
Нас и наши скромные пожитки погрузили в волокуши, прикрепленные тросами к тракторам. Громыхая, прыгая на кочках, ревя двигателями, четыре машины катили по тропам, а мы в волокушах болтались у них позади. Тракторы пробирались по бездорожью туда, к непримиримой лесотундре, прочь от привычной мне жизни. Огни порта Игарки тускнели, а потом и вовсе канули в темноте, забирая вместе с собой глупые надежды на возвращение.
– По краю болота едем, – боязливо шепнула одна из осужденных, заметив, что в свете фар «поджигается» поверхность топи. – Ох, как бы не поскользнулись колеса! Не приведи господь рухнуть в пучину!
Женщины испуганно вскрикнули и кинулись к бортам саней, чтобы тоже взглянуть на болото. Меня, сидящую как раз у края, придавило под их натиском.
– Дура! Хватит каркать, не то и впрямь свалимся, – ощетинилась женщина в полушубке. В добротном таком, теплом полушубке. Не двинувшись со своего нагретого места, она зевнула. – Шофер-то целыми днями туда-сюда мотается. Авось знает, куда машину направить.
– Иисусе! Спаси и сохрани… – не поверив той, что в полушубке, одна из девушек принялась молиться вслух. На ней были поношенная одежда, зато крепкие кожаные сапоги.
В лицо дыхнул студеный северный ветер. Пробивая броню тонкого шерстяного пальто и ботинок без подкладки, присланных Загорским, он пробирался под кожу, к костям и внутренностям. Как бы в подмогу ему, заморосил мелкий, противный дождичек. Я обхватила плечи и согнулась пополам, стараясь унять дрожь. Шерстяные чулки с шарфом не спасали от непогоды. Свитера у меня больше не было, его своровали уголовницы. Прихватили они также большую часть моих денег – три тысячи – и роскошный бюстгальтер из персикового шелка (а потом представали в нем перед красавцем-надзирателем, продававшим им курево). Хорошо хоть, не догадались заглянуть ко мне в кармашек трусов, куда я спрятала оставшиеся две тысячи…
Спустя пару часов и несколько молитв, распетых бесчисленное количество раз хриплым хором обращенных к небу заключенных, тракторы добрались до лесоповалочного лагпункта. И наконец – вот она, впереди. Приветствовала новый этап. Колючая проволока, протянутая в несколько ежистых рядов, огибала всю режимную зону и поблескивала в лучах фонарей. «Труд в СССР – дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!» – гордо гласила надпись на табличке, подвешенной над въездной аркой.
Охранники открыли ворота, чтобы впустить тракторы. Истошно залаяли собаки, срываясь с поводков у вооруженных мужчин.
Одноэтажные деревянные дома, узкие тропинки, сонно прогуливавшиеся люди. Колония могла бы сойти за обыкновенную деревушку, если бы не заскучавшие стрелки́ на вышках (попки, как их тут величали) и угрюмые конвоиры, месившие грязь сапогами в ожидании этапа. Проходившая мимо девочка-подросток в шерстяном платке остановилась и, разинув рот, с любопытством вытаращилась на нас.
– Пшла! – будто на дворовую шавку, гаркнул на нее конвойный.
Поджав невидимый хвостик, девочка убежала.
Я наблюдала за происходящим отчужденно, словно меня здесь не было, словно я просто развалилась в мягком кресле перед экраном и смотрела тяжелое кино. Не могла я свыкнуться с тем, что этот грубый, неуютный лагерь будет моим домом. Домом!.. Шутка ли? Подходит ли такое теплое слово столь убогому пристанищу?
Мы продолжали смирно сидеть в волокушах невзирая на то, что дождь усиливался, а голод сжимал желудок; только когда кто-то из погон приказал спуститься, мы, хватаясь негнувшимися от холода пальцами за перекладины, неуклюже спрыгнули на землю и построились. Я оступилась и угодила в лужу, замочив дырявые, как вышло на поверку, ботинки.
Перед нами предстала начальница лагпункта капитан Аброскина. Упитанная низкорослая женщина была одета в аккуратные сапожки на невысоких каблуках и в шинель с васильковыми кантами МВД на погонах. Узкие глаза, тонкие брови, маленький нос и плотно сжатые губы визуально проваливались на ее толстощеком лице.
– Здравствуйте, гражданин начальник! – не то чтобы сказали, а как-то промямлили уставшие донельзя мы.
– Это так у нас начальство приветствуют? – недовольно вздернула свою тонкую бровку Аброскина.
– Громче! – скомандовал усатый конвоир, прошествовав вдоль первого ряда. Оскалив клыки, на нас зарычала натянувшая поводок овчарка.
– Здравствуйте, гражданин начальник! – закричали мы что есть мочи.
Капитан не проронила ни звука, хотя и смягчилась. Подоспевший младший лейтенант, который сопровождал этап от порта до лагпункта, раскрыл над ней зонт, и капли дождя забомбили по куполу. Мы скоропостижно намокали. Аброскина отбросила длинную косу на спину и критически рассмотрела прибывших.
– А че они дохленькие такие? – огорчилась она. – Где рабочая сила? Мне сказано – норму повышать. Эти ноги еле переставляют, куда им лес валить?
Аброскина приблизилась к строю, за ней – мужчина с зонтом, и они вместе оглядели с ног до головы ту самую зэчку, которую рвало в трюме по пути в Игарку. Ее, похоже, все еще тошнило. Девушка приложила костлявые руки к животу и сглатывала, не поднимая взора на начальницу. Лейтенант замялся.
– Отобрали самых крепких, Анна Николаевна, – оправдался он перед начальницей.
– Ты, что ль, Чупин, отбирал? – отозвалась она, задумчиво приподняв подбородок молодой симпатичной грузинки. – У нас таких, как эта, – вагон и маленькая тележка. Нам рабочие нужны!
Потупившись, Чупин смолк.
– Ну, дылда ничего, – снисходительно кивнула Аброскина на меня, и тотчас стало ясно – не видать мне легкой работы, как собственных ушей.
Поругавшись себе под нос, капитан отошла от костлявой и махнула рукой Мельниковой, своей помощнице по труду. Та выставила перед собой папку с документами и устроила сотую на моем счету перекличку. У Мельниковой были визгливый, режущий слух голос и пронзительные орлиные глаза.
– Назарова!
– Назарова Александра Викторовна, статья сто сорок два, четыре года.
– Пушкарева!
– Пушкарева Зинаида Игоревна, статья пятьдесят восемь, шесть, двадцать лет.
– Адмиралова!
Я вздрогнула. Фамилия показалась до боли знакомой.
– Адмиралова! – возопила еще выше Мельникова. – Заснула, что ли, твою мать?
Заключенные стали озираться, разыскивать непутевую кукушку. По колонне пронеслись шепот и смешки. Нахмурившись, я неуверенно заговорила:
– Девичья фамилия Адмиралова – моя, гражданин начальник. Но вот уже десять лет, как я Загорская. В прежних списках значилась фамилия мужа. Проверьте: Нина Борисовна Загорская.
Мельникова перечитала каракули в бумагах.
– Нет у меня никакой Загорской, только Адмиралова, – буркнула она. Ее сердила возникшая заминка. – Выйти из строя!
Я шагнула вперед и открыла было рот, но Аброскина меня опередила.
– Нам новые списки пришли, – пояснила она тихо. – В них ты Адмиралова. Значит, мужнину фамилию больше не носишь. Должно быть, на развод он подал, голуба…
– Ишь, скоростной какой, – ответила я со слабой улыбкой.
– Так часто бывает. – Капитан прикрыла зевок ладонью. – Никто не хочет быть женатым на враге народа. Ну, не раскисай. К нам на работы поступила зэка Адмиралова. Повтори, как было сказано изначально.
– Адмиралова Нина Борисовна, статья пятьдесят восемь, десять, десять лет, – послушно повторила я, после чего Мельникова вновь заголосила, сверяясь со списком.
Перед тем как расселиться, нам предстояло пройти обязательные для всех новичков обыск и дезинфекцию, так что от ворот мы проследовали в баню. Мы разделись догола, повесили свои засаленные одежки на крючки и образовали новую длинную очередь, растянувшуюся от моечной вплоть до конца неотапливаемой прихожей-тамбура. Пожилая надзирательница отдавала знакомые команды: распустить волосы, раздвинуть пальцы, ноги и ягодицы. Слабые морщинистые руки ее исследовали наши тела. Все были чисты, кроме бывшей проститутки – у нее в заднем проходе обнаружили капсулу с кокаином, или, как выражались воровки, «затычку с марафетом».
Закончив обыск, надзирательница удалилась. Вместо нее вошли солдаты.
Прогнозы Громова сбывались.
Наплевав на переполох, который они вызвали своим появлением, охранники разошлись по разным углам. Они были крайне воодушевлены. С азартом хулиганистых мальчишек, задирающих юбки однокашницам, взрослые мужчины беззастенчиво пялились на нас и обсуждали между собой самых привлекательных, нисколько при том не стесняясь в выражениях. Уязвимые, затравленные нагие женщины завыли, всхлипывая и шмыгая носами. Поныне им не доводилось испытывать более чудовищного унижения.
– Хороша баба! – одобрил дерзкий надзиратель грузинку, отмеченную ранее Аброскиной. Под мешковатым пальто у нее обнаружились пышные формы, напоминавшие изгибы гитары.
Фигуристая явно расслышала его, но виду не подала – отвернулась. Тогда надзиратель смачно шлепнул ее по округлой заднице. Пережившая немало посягательств за время этапирования и натерпевшаяся в край, красотка горько разрыдалась. Охранники покатились со смеху.
Я ощутила спиной легкое прикосновение волос. Это зэчка позади меня подступила вплотную, чтобы спрятаться от ненасытного взгляда конвойного. Я не шелохнулась. Пусть прячется, а я себя закрывать не стану. Я притворилась, будто никаких надзирателей в женской бане не было, и просто шла в очереди к ведрам с мыльной пеной, желая одного: поскорее смыть с себя этапную грязь и поесть.
«Чего толку стесняться? – ворчала я про себя, косясь на охающих и ахающих. – Только тешить этих весельчаков. Сколько сисек и поп продефилировали перед ними, на любой вкус! Ну вылупились, ну цокают, ну отпускают пошлые шутки, и черт с ними! Не домогаются, на том спасибо».
Одеваясь после мытья, я с облегчением обнаружила, что две тысячи все еще находились в моих трусах. Нас повели в карантинный жилой барак. Мы гурьбой ввалились в переполненное, душное помещение, мало чем отличавшееся от корабельного трюма. Вдоль стен тянулись вагонки – деревянные двухъярусные нары, сколоченные блоками по четыре спальных места. Каждое такое место (по-лагерному, шконка) было предназначено для одного человека. Однако все вагонки были забиты под завязку.
Мы толпились на пороге, не зная, куда деваться. Дневальная – крупная девица с мужицкими широкими плечами – не растерялась. Она начала раскладывать нас по двое, а то и по трое, если возникала такая необходимость. Звали ее Галиной, или Галкой. Человеком Галка была, мягко сказать, бесцеремонным. Она без зазрения совести сталкивала на край мирно развалившихся девушек, будила спящих, скидывала на пол вещи отсутствовавших. Подростков сгоняла группами на одну шконку, заставляя их уступить взрослым. Но были те, кого Галка не трогала, даже не смотрела на них. То были жучки.
Воровки сидели сплоченной командой у печи, скрестив ноги под собой, и хищно зыркали на нас, словно стая гиен на стадо зебр.
– Какие заколки у тебя красивые, – подмигнули они полной даме, у которой в волосах блестели золотые украшения.
Меня поселили с бывшей студенткой – немногословной, серьезной девушкой лет двадцати по имени Даша. Тоже из новеньких, прибыла в лагпункт вчера (но срок отбывала не первый год). Я не то что не жаловалась, а, напротив, была рада нашему соседству. Фигуристой грузинке повезло гораздо меньше. Она отчего-то сразу возбудила к себе лютую неприязнь и была сослана к храпящей, не очень опрятной с виду старухе, которая, как выяснилось позже, к тому же страдала метеоризмом.
Покормили мамалыгой, а казалось, что не кормили вовсе. После отбоя Даша повернулась ко мне спиной, задев плечом – я не поняла, нарочно или случайно, – и моментально уснула. Она еле слышно посапывала в подушку, а я ворочалась. Все пыталась привыкнуть к спертому, зловонному воздуху в бараке. Немытые тела тех, кого разместили в карантинном до нас, ночная параша с мочой, пропитанная потом одежда и свисавшее с веревок влажное после стирки белье. Это была несусветная вонь. Это само по себе было наказанием.
Так я и лежала, уставившись в потолок, когда жучки тихонько повставали с нар и пошли обворовывать прибывших. «Курочить, тут говорят: курочить, – поправила я себя. – Учи жаргон, Нина».
Жучки рылись в вещах мастерски ловко и беззвучно. Так прощупывает пациента опытный врач, выучивший за годы практики, какими движениями и в каких местах следует пальпировать тело. Я изображала спящую, когда чьи-то ледяные руки прошлись по моим волосам, ушам, шее, пальцам и запястьям. Воровка не отыскала на мне ни украшений, ни креста, зато, в отличие от жучек из трюма, догадалась пошарить в трусах. Я от безразличия и какой-то безнадеги даже не дернулась. Забрав деньги, уголовница потеряла ко мне интерес и сунулась к соседке.
Золотые заколки соскользнули с волос полной дамы, вместе с ними исчезли и кожаные ботинки молившейся в волокуше девушки. Добротный полушубок тоже куда-то запропастился.
Жучки заныкали добытые клады и возвратились на свои шконки. Стихло. Я провалилась в беспокойный сон, изредка прерывавшийся оттого, что Даша дергала ногами и мычала. Кошмары, поди, виделись.
* * *– Подъем! – распорядилась Галка.
Так начиналось наше утро. В шесть часов.
Я выбралась из-под Даши – среди ночи она завалилась на меня, но ни я, ни она того не заметили – и протерла опухшие глаза. Вот сейчас я действительно чувствовала себя заключенной. Загнанной за колючую проволоку, как отпетая преступница, опущенной до самых низов заключенной, утратившей все цели, кроме единственной – выжить, выжить любой ценой.
Как и другим новобранцам, мне выдали типовую одежду для работы. Я скинула одеяло и принялась одеваться. Натянула шерстяные чулки, поверх них – серую юбку. Залезла в высокие сапоги, голову покрыла платком. На рубаху надела бушлат, к которому пришили кусок ткани с моим порядковым номером – З-22. А может, это был чужой номер… но З-22 больше нет.
Все серое, бежевое, коричневое или черное, бесформенное, заношенное, местами порванное. Благо, в лагерях были запрещены зеркала – я боялась увидеть новую Нину взамен той, которая носила платья с туфлями, укладывала блестящие каштановые волосы на затылке и двигалась с привитой матерью грацией. Впрочем, красоваться тут было не перед кем.
В жилую зону принесли завтрак в термосах. Первыми еду получили те, у кого была собственная посуда, другие ждали своей очереди. Пища тем временем стыла. Сделала себе пометку на будущее: раздобыть хотя бы личную миску. Ложки тут были, кстати, не металлические, а деревянные.
Я глянула на выданную мне порцию. Опять мамалыга! Да еще и кипяток вместо чая. Раздали по семьсот граммов непропеченного хлеба, съела весь. Потом уже узнала, что его резали на день и все откусывали помаленьку вплоть до ужина. Век живи – век учись, но у меня века не было, мне нужно было постичь азы по ускоренному курсу.
Позавтракав, мы встали колонной на улице. Мельникова, или трудила, как ее называли, приступила к поверке. Помни, что ты Адмиралова, твердила я себе как заведенная. Адмиралова, Адмиралова, Адмиралова… Как непривычно после стольких лет вернуться к отцовой фамилии!
– Адмиралова! – вылетело из уст трудилы.
– Адмиралова Нина Борисовна, статья пятьдесят восемь, десять, десять лет!
«Будто и не было никогда Сережи, – с грустью рассуждала я, задрав голову к серому небу. – Хотя, наверное, его и правда никогда не было».
Нарядчица Ерохина, окруженная солдатами, разделила нас на бригады. Меня записали к сучкорубам, и я, несведущая, наивная, воспряла духом, решив, будто удалять сучья – плевое дело. Не деревья же пилить…
Мы поплелись вперед, за нами двинулись конвоиры.
– Направляющие, шире шаг! – командовали они, проходя вдоль колонны. – Задние, подтянись! Шаг влево, шаг вправо – будет применяться оружие!
Путь до лесоповала занимал около двух километров. Мы шли пешком по протоптанной дорожке в лесу, спускались в низину и поднимались на холм, затем перебирались через речушку по ветхому мосту. С нами шагали лошади. Худощавые, хиленькие животные порой упирались копытами в землю и отказывались идти дальше. Дышали часто, не реагировали на оклики. То головой дергали, то хвостом. Две и вовсе хромали. И все же они везли на себе некоторых зэчек, а на лесоповале вкалывали до умопомрачения.
– С лошадьми будь осторожнее, – советовала мне Лида. – Четвероногих у нас берегут больше, чем двуногих.
Лида относилась к указницам12. Она была тонкой, хрупкой, немощной женщиной около пятидесяти лет. Костлявая, с прозрачной провисшей кожей, Лида казалась меньше своего роста и всегда говорила вполголоса. Я смотрела на нее и недоумевала: эта – и на общих? Возможно ли?
Она горячо любила бога и постоянно молилась ему одними губами: перед едой, среди рабочего дня, отходя ко сну. Во внутреннем кармане бушлата тайно хранила золотой крестик, так что иногда Лиду заставали на коленях, благоговейно державшуюся за грудь. Среди воровок она считалась чудачкой, поэтому те не обращали внимания на ее эпизодические «припадки». И хотя Лида никогда не давала обетов, жучки звали ее Монашкой, на что она совсем не обижалась.
Одна из лошадей, преодолевая балку, протестующе заржала и замедлила ход. Бока кобылы раздувались, пока она старалась отдышаться. Сидевшая на ней заключенная погладила гнедую по шее, мягко уговаривая не бунтовать.
– Навредишь лошади, не дай бог, – продолжала Лида, – или из строя ее выведешь…
– Что, запрет на переписку и прием посылок? – предположила я.
– Хуже! – Она вздрогнула. – Коли умрет по твоей вине – схлопочешь дополнительный срок. Господи, помилуй… – и фанатично перекрестилась.
Лида оказалась права. Однажды я видела, как девочка-подросток сильно, с ярой ненавистью ударила полуживую клячу кнутом по крупу, чтобы та наконец тронулась. Животное не пострадало, но недовольно взревело, и только за это девчонке дали десять суток штрафного изолятора.
Работа на лесоповале была тяжелой. Очень тяжелой. Заключенным нужно было валить деревья, обрабатывать их от ветвей и сучьев, а затем возить на берег. Отсюда бревна сплавляли по Енисею в лагпункт, где из древесины изготавливали шпалы для железной дороги. Деревья сваливали в волокуши, волокуши цепляли к лошадям. Запряженные кобылы тянули сани к реке, а зэчки понукали их, чтобы шевелились быстрее.
Обед доставляли прямо на лесоповал. У полевой кухни выстраивались, как обычно, длинные очереди. Сегодня повар сварил баланду. Я получила свою порцию и отошла, обрадованная, что наконец-то поем мяса с овощами, а не надоевшую кашу. Но что ж у меня тут, в жестяной миске? Кисловатый вкус похлебки сигналил о прогнившем картофеле; ни мяса, ни зелени не было, лука с морковью тоже. Сам суп был несытным, водянистым, несоленым. Я поскребла по дну посуды и заставила себя прожевать плавающие в воде кубики картошки.
«Это помои, а не обед рабочего», – обозлилась я про себя, досадуя на пустоту в желудке.
– Все вы, новенькие, один к одному, – сказала Лида, отставив в сторону вылизанную миску.
Она всосала баланду за минуту. Глотала быстро и жадно, точь-в-точь свинья, когда ей приносят объедки с хозяйского стола.
– В первые дни привередничаете, мол, никогда не свыкнусь со здешней пищей, – добавила Лида с иронией.
К нам прокралась костлявая женщина с кровавыми деснами – мне уже было известно, что такие бывают у цинготных. Она с надеждой смотрела на мою баланду. Зажмурившись, я залпом вылакала остатки жидкости, которая должна была быть мясным бульоном. На языке остался противный привкус. Костлявая, расстроившись, отползла.
– А тебе что, вкусно, сытно? – спросила я, подавив приступ тошноты. Нет, привыкнуть к этой бурде невозможно!
– Голод не тетка, захочешь, и не то съешь, – отмахнулась она. – Я-то уж знаю, я в сорок шестом голод в Воронеже застала. А тут что, тут вон хлебу дают, какой-никакой суп или кашу. И между прочим, хлебу нам дают семьсот грамм, это норма заполярная, а в Омске у меня четыреста было… Лучше, чем ничего, в брюхе ведь что-то да переваривается. Ты авось не голодала никогда, вот нос и воротишь.
Я не голодала и не больно-то рвалась начинать.
– А суп всегда такой? Или мясо тоже бывает?
– Мясо? – озадачилась Лида, словно вспоминала значение слова. – Нет, мясо редко: все начальству, обслуге и собакам уходит. А вот треску или селедку часто ложут.
– Кладут, – поправила ее я, а потом укорила себя – зачем? На кой черт тут кому-то сдались мои поучения?
Лида спрятала ложку во внутреннем кармане бушлата – самом надежном тайнике заключенного. Там же показался край бинта.
– Зачем тебе бинты? – удивилась я. – На случай, если порежешься?
– На случай, если кровотечения пойдут, – сухо объяснила она, одернув черную линялую юбку.
Дело не в менструациях. Это я поняла не по возрасту Лиды, но по ее хмурым глазам.
– У тебя что, случаются кровотечения? – прошептала я пораженно.
– Да тут у каждой второй они случаются, – ответила она без обиняков. – Негоже женщинам лес валить. Это еще что; вот недержание мочи, выпадение прямой кишки, матки и влагалища – штуки неприятные. У меня еще не так все плохо…
Я непроизвольно положила руки на живот.
– Лида, где ты бинты брала? – спрашивала я уже через неделю, когда настали те самые дни месяца.
– У фельдшера рулон выпросила, когда в санчасти лежала, – сказала она и, догадавшись, что меня волнует, прищурилась. – Вату бери. Из матраса.
Я с жалостью помянула свой худенький матрасик, которому и без того-то, родненькому, ваты не хватало.
– На чем же спать, если так каждый месяц по куску отрывать?
– Оглянулась бы вокруг в бараке, что ли, – закатила глаза Лида.
Воротившись с лесоповала, я оглянулась. И в первый раз заметила, что матрасы у многих пусты, от них остались лишь чехлы. Вздохнув, тоже полезла внутрь. Что ж еще делать? Вскоре после меня от содержимого матраса откусила и Даша.
Когда рабочий день близился к концу, я с трудом держала топор. Сучья не поддавались ударам слабой бабы, и я, бессильная, а оттого бешено злая, грязно бранилась на них в надежде, что как-нибудь они услышат меня и поддадутся. Обратно в лагпункт не шла, а буквально подтаскивала за собой волочащиеся ноги. Укладываясь спать, Дашу игнорировала. И она брюзжала, если я ненароком преступала невидимую черту, разделившую нашу шконку на две половины. У нас царило абсолютное взаимопонимание.
Однажды вечером, когда рабочий день подошел к концу, женщины скучились, готовые отправиться на базу. В этот торжественный миг нас должны были забрать конвоиры, но они куда-то подевались. Мы терпеливо стояли пять минут, затем стали озираться, звать их.
– Эй, длинная, – обратилась ко мне жучка, не придумав еще прозвище. – Смотайся, разыщи.
Пошла. Обнаружила охранников в траве неподалеку от лесоповала. Они безмятежно спали, протянув ноги к угасающему костру.
– Гражданин начальник, – потеребила я за плечо главного, старшего сержанта Семенова.
Он разлепил один глаз и долго соображал, что происходит.
– Пора в лагерь возвращаться, – подсказала я.
– А, да, идем, – опомнился он, широко зевнув. – Ибрагимов, подъем!
Эта ситуация настолько обескуражила меня своей несуразностью, что на следующий день я решила попытать Лиду. Несмотря на то что в разгар рабочего дня всегда было шумно, я сохраняла осторожность.
– Слушай, Лида, – прошептала я, – не пойму, как же наши конвоиры могут спать на посту. Они же охранять обязаны!..
Солагерница выпрямилась и вытерла пот. Грязные пальцы проложили на ее лбу темные дорожки, но я промолчала. Смысл вытирать? Не сейчас, так через полчаса вымажется. Все мы приходили на базу одна другой краше.
– А чего им суетиться? – ответила Лида, положив топор и восстанавливая дыхание. – Их забота – нас туда-сюда водить да худо-бедно за порядком приглядывать. Чтоб не отлынивали, не дрались.
– Не спать же в рабочее время! Вдруг побег?

