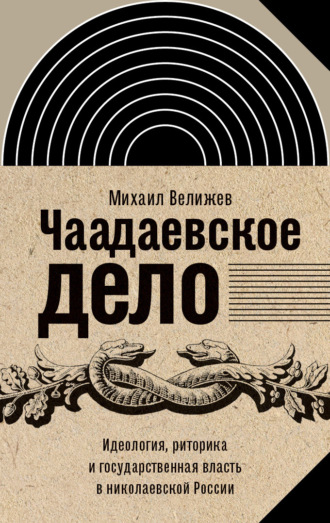
Полная версия
Чаадаевское дело. Идеология, риторика и государственная власть в николаевской России
Полемическое выступление уваровского фаворита вызвало ожесточенную критику. С одной стороны, Устрялова ругали представители профессионального сообщества – за вольное обращение с источниками и необоснованность отдельных умозаключений[270]. С другой стороны, сочинение петербургского историка не понравилось защитникам посмертной репутации Карамзина. Так, П. А. Вяземский написал гневное письмо Уварову, содержавшее апологию «Истории государства Российского», которое, впрочем, отправить он так и не решился[271]. Вяземский переводил разговор об исторической науке в сугубо идеологическое русло. В его интерпретации разница между «любовью к древности» и историко-филологической критикой, с одной стороны, и «философской историей», с другой, практически исчезала: обе разновидности историографического метода теряли свою значимость перед «высшими» функциями истории как политико-философской матрицы, на которой строилась национальная и государственная идентичность[272].
С точки зрения Вяземского, творение Карамзина идеально репрезентировало «высшие» функции исторической науки: «одна и есть у нас книга истинно государственная, народная и монархическая», созданная еще до прихода Уварова в министерство и воплотившая дух православия, самодержавия и народности[273]. Всякое обвинение или «ругательство» в адрес «Истории государства Российского» интерпретировалось Вяземским как критика структурообразующих для русской власти начал. Даже невинная на первый взгляд ученая дискуссия оборачивалась опасным обсуждением природы самодержавия и основных линий провиденциального замысла, ведущего Россию к спасению. Вяземский связывал восстание декабристов с нападками антикваров, за которыми легко угадывался другой контекст – критики «Истории государства Российского» членами тайных обществ[274]. Заговорщики в 1825 г. не думали о Карамзине, но, по мнению Вяземского, «журнальная» и «политическая оппозиция» в символическом смысле составляли одно целое, поэтому события 14 декабря оценивались им как «критика вооруженной рукою на мнение, исповедуемое Карамзиным»[275].
Более того, Вяземский прямо уподобил «О прагматической системе русской истории» первому «Философическому письму». Он назвал чаадаевский текст «отрицанием той России, которую с подлинника списал Карамзин» и одновременно логическим продолжением критики, которая в последние 15 лет обращалась против карамзинской «Истории»[276]. Вяземский не считал, что Чаадаевым руководили политические мотивы[277]. Его действия были невольно спровоцированы подопечными Уварова – цензорами и университетскими историками, т. е. тем же Устряловым, который, споря с Карамзиным, подрывал авторитет самодержавия, прикрываясь соображениями о пользе научной дискуссии[278]. По мнению Вяземского, Устрялов фактически утверждал, что «у нас нет истории». В этом, собственно, и состояло тождество журнальной статьи с академической диссертацией, смысл которой заключался «в необдуманном, сбивчивом повторении пустословных обвинений „Телеграфа“, „Телескопа“ с братиею!»[279]. Скандальное, по мнению Вяземского, сочинение не выдержавшего университетского диспута Устрялова могло оказать пагубное влияние на учащуюся молодежь. Тем самым Устрялов и Уваров подрывали доверие «благомыслящих» родителей к отечественной образовательной системе.
Как мы сказали, Вяземский письма Уварову не послал, однако его текст можно рассматривать как одно из свидетельств общего скепсиса по отношению к устряловской книге. Несмотря на всю критику «О прагматической системе русской истории», позиции Устрялова после ее публикации и защиты лишь укрепились: вскоре он стал профессором Санкт-Петербургского университета, членом Академии наук и автором пятитомной «Русской истории», на которой строилось университетское преподавание этой научной дисциплины. Условием, позволившим Устрялову преодолеть активное сопротивление коллег, служило соответствие опорных пунктов его версии русской истории политическим видам министра народного просвещения. Ради достижения подобных целей близким к Уварову историкам позволялось многое – в том числе и критика освященной авторитетом Александра I «Истории государства Российского» Карамзина. Как говорил историк П. М. Строев в разговоре с Погодиным в конце 1833 г.: «Теперь русскую историю „нельзя обделывать иначе, как под эгидою правительства, иначе забьют“»[280].
VIIЧто еще разрешали правила идеологической игры в середине 1830-х гг.? Как показывает один из прецедентов, в печати была позволена критика концепции социального порядка, согласно которой аристократия считала себя главной и чуть ли не единственной опорой трона. Практически одновременно с публикацией Надеждиным первого «Философического письма» еще один журналист – уже упоминавшийся А. А. Краевский – еле избежал неприятностей из-за яркого и нетривиального текста, в котором он поставил под сомнение политические претензии дворянской элиты. Причем сделал он это, воспользовавшись чисто академическим приемом, – написав краткую «ученую» биографию одного из самых спорных и зловещих персонажей русской истории. 24 августа 1836 г. цензор П. А. Корсаков подписал к печати брошюру Краевского под названием «Царь Борис Федорович Годунов», вышедшую затем в типографии Греча. Об истории книги автор писал Погодину 8 октября:
Посылаю Вам завтра через родных моих в Москве свою брошюру: Царь Борис Федорович Годунов. Это статья, написанная мною для Энц‹иклопедического› Лекс‹икона›, потом перепечатанная Гречем, без моего ведома, в Сыне Отеч‹ества›, и в вознаграждение присланная мне в отдельных оттисках. Она наделала здесь много шуму: ценсору и издателям грозила гаубт-вахтою, а автору чуть не колесованьем; восстало боярство за честь боярства XVI века, восстали святоши, запищали разные гадины. Но мудрость и благодушие Государя защитили и спасли автора, ценсора и всех прикосновенных к делу. Разошлите экземпляры по адресам[281].
Что же так рассердило неизвестных критиков Краевского? Он изобразил Бориса иначе, чем Карамзин в «Истории государства Российского»[282]. Годунов выступал у Краевского не злодеем, а героем, далеко опередившим свое время, чьи достоинства рельефнее проступали на фоне всеобщего невежества конца XVI в. Он не был властолюбцем и получил власть на законных основаниях – напрямую от Ивана Грозного[283]. Годунов разумно вел внутреннюю и внешнюю политику, поощрял искусство и торговлю[284], даже стоял у истоков панславистской идеи[285]. Простолюдин, державший в повиновении аристократов[286], он столкнулся с ненавистью представителей знатных дворянских родов[287]:
Зависть и злоба бодрствовали и со всех сторон окружали Бориса Феодоровича, тогда как он, деятельный, неутомимый, мудрый законодатель, судия и благотворитель, день и ночь трудился над оживлением сил государственных, и привидением в стройность и крепость всего состава России, еще не совершенно организованного[288].
При всем том Борис оставался милостивым монархом, любившим иностранцев и, главное, почитавшимся своим народом. Именно «народ» сделал Годунова правителем, вопреки «козням» бояр[289]. Краевский описал избрание Бориса на царство по уваровской схеме: православие олицетворял патриарх Иов, самодержавие – Ирина Годунова, жена царя Федора Иоанновича и, следовательно, представительница династии Рюриковичей, народность – московские жители, аккламационным ликованием утвердившие восшествие Бориса на престол.
Годунов был монархом, не желавшим царствовать и принесшим себя в жертву национальным интересам[290]. Этими чертами он напоминал Николая I, будучи не только «воителем», но и «устроителем мирным»[291]. Сходство усиливалось благодаря акцентуации таких сфер деятельности Годунова, как законодательство и образование. Так, согласно Краевскому, Борис «в 1600 г. объявил намерение основать университет в Москве»[292] и планировал отправить за границу молодых людей для обучения наукам, становясь одновременно прямым предшественником Петра. С публичным образом Николая Годунова объединял культ семейственности: Борис изображался примерным мужем и сыном[293], а также «отцом» своих подданных[294]. Годунов не был полным двойником Петра I или Николая I, но его образ наделялся символическими чертами, заимствованными из имперского сценария власти. Краевский представил дело так, что, оспаривая созданный им образ Годунова, критики подвергли бы сомнению базовые пункты николаевской политической идеологии. В итоге тактика журналиста оказалась действенной: ему удалось отвести возникшие обвинения в принижении достоинства дворянской элиты.
О самом скандале почти ничего не известно[295]. Вероятно, положительный исход дела сочинителю обеспечили не только умение расчетливо построить исторический нарратив, но и наличие связей в Министерстве народного просвещения и в III Отделении. Однако вне зависимости от конкретных причин, благодаря которым Краевскому удалось избежать наказания, аргументация журналиста позволяет судить о новых для русского общественного пространства правилах идеологической игры. Так, они допускали вольное толкование классических исторических сюжетов в политических целях. Мотивы, по которым Краевский в мрачных красках описал русскую аристократию, остаются непроясненными, но из его слов в письме к Погодину мы можем сделать вывод, что брошюра о Годунове вызвала недовольство представителей современного «боярства» и дело едва не дошло до репрессий, хотя в итоге благонамеренность журналиста сомнений не вызвала (не случайно в письме к Погодину Краевский ссылался на «мудрость и благодушие Государя»: после декабрьских событий 1825 г. Николай I не испытывал к русской аристократии особого доверия). Позиция Краевского основывалась на введении в научное повествование элементов актуальной политической риторики. Полемический жест черпал свою легитимность в формулах официального национализма, расширяя границы доступных идеологических высказываний.
VIIIВ середине 1830-х гг. высокопоставленные чиновники, цензоры и авторы осваивали пространство разрешенных историко-политических действий, опытным путем устанавливая правила игры. Анализ прецедентов показывает, что уваровская концепция имперского национализма допускала различные толкования вплоть до небольшой доли экуменизма, обоснования геополитической значимости славянского мира для России, обсуждения социальных функций христианства, критики посмертной репутации Карамзина-историографа или инвектив в адрес аристократии как главной общественно-политической силы империи. Все упомянутые интеллектуальные операции стали частью определенной стратегии дискурсивного и публичного поведения. Погодин, Бодянский, Максимович, Муравьев, Устрялов и Краевский стремились поддержать свою репутацию ученых. Они подчеркивали, что пишут сугубо академические тексты, не претендовавшие на особую политическую значимость. Если мы присмотримся к их сочинениям, то обнаружим, что этот ход был уловкой, призванной обезопасить авторов от обвинений в излишнем рвении в области, ставшей предметом государственной монополии. Оперируя историческим материалом, они делали политические или политико-философские заявления, устроенные по одной и той же схеме: оригинальное утверждение помещалось внутрь повествования, в общих чертах соответствовавшего доктрине официального национализма. Важно, что речь не идет о ритуальном цитировании или формальном соотнесении. Уваровская концепция в этот период полностью не сформировалась, поэтому сочинения, о которых мы писали выше, обладали конструктивной функцией: их следует рассматривать как попытку разработать и утвердить новые правила игры, присваивая легитимный статус высказываниям, не вполне совпадавшим с воззрениями Уварова, и достраивая официальную идеологическую схему, не всегда считаясь с мнением ее творца.
Чаадаевская история показала, где проходит граница между неконвенциональным, но дозволенным, и абсолютно недопустимым. Разумеется, правила идеологической игры продолжали устанавливаться и корректироваться и после 1836 г., вероятно, до того момента, пока риторический и аргументативный арсенал имперского национализма до определенной степени не сформировался. Впрочем, значение чаадаевского дела не исчерпывается его воздействием на публичный историко-философский дискурс. Скандал вокруг напечатания первого «Философического письма» заставил активизироваться группу интеллектуалов, не готовых следовать предложенным властями нормам, не считавших возможным маневрировать и достаточно финансово независимых, чтобы не бороться за экономический капитал, доступный через патронажные сети. Желание со всей откровенностью отвечать Чаадаеву привело будущих западников и славянофилов к действиям внутри альтернативного публичного пространства, границы которого располагались вне подконтрольной официальному Петербургу сферы. Правила игры, допустимые в кругу избранных друзей и гостей хозяев дворянского салона, отличались отсутствием каких бы то ни было идеологических запретов: здесь было разрешено спорить на самые разные темы и обосновывать любую точку зрения.
Ключевую роль в становлении нового пространства политико-философских дебатов сыграла Москва – столица без двора, крупный интеллектуальный центр, далекий от петербургских чиновников. Частичная свобода от тотального политического контроля, актуального для других частей империи, была присуща Москве давно. Впрочем, в период военного генерал-губернаторства Д. В. Голицына (1820–1844) степень ее автономии возросла: московское начальство последовательно оберегало местное дворянство от вмешательства в его дела представителей высшей имперской администрации[296]. Вокруг Голицына и его сочувственника попечителя Московского учебного округа С. Г. Строганова, симпатизировавших принципам конституционно-монархического правления, возникло сообщество, состоявшее из людей, профессионально занимавшихся образованием, науками и правом, некоторые из которых позже участвовали в подготовке Великих реформ[297]. В старой столице были созданы относительно тепличные условия, позволявшие салонным и академическим ораторам безбоязненно выражать свое мнение в устных разговорах и на университетских лекциях. Платой за откровенность стала невозможность издавать политические тексты и ограниченность идеологического воздействия кругом посетителей московских частных собраний. Впрочем, после смерти Николая I, ослабления цензуры и публикации части сочинений, прежде не имевших шансов явиться на суд публики, выяснилось, что властители салонных дум оказали огромное влияние на своих современников. Не будучи стеснены ограничениями, они имели возможность обсуждать самые актуальные политико-философские материи и благодаря этому обстоятельству находились не на периферии мыслящего сообщества, а в самом его центре.
Глава 5
Надеждин, католицизм и непреднамеренные последствия политических жестов
IВ соперничестве за общественную поддержку и при легитимации управленческих ходов политики пользуются прежде всего языковыми средствами. Этот кажущийся сегодня банальным тезис приобрел особенную актуальность накануне Великой французской революции, с которой начался «долгий» европейский XIX век. Новая эпоха ознаменовалась разнообразием форм политико-философской дискуссии. Дистанция, разделявшая печатное слово и административное действие, стала резко сокращаться: авторы революционных памфлетов имели труднопредставимую прежде возможность с помощью публицистических демаршей влиять на принятие политических решений, что резко повысило статус общественных дебатов. В предисловии к своей книге «Изобретая Французскую революцию» (1990) британский историк К. М. Бейкер пишет:
Политика состоит в производстве высказываний [making claims]; это деятельность, с помощью которой индивиды и группы в любом обществе артикулируют, обсуждают, претворяют в жизнь и аргументируют конкурирующие между собой высказывания друг о друге и о сообществе в целом. В этом смысле политическая культура есть набор дискурсов или символических практик, с помощью которых производятся высказывания[298].
Р. Шартье в работе «Культурные истоки Французской революции» (1991) предложил, вполне в согласии с Бейкером, понимать политическую культуру как «совокупность конкурирующих дискурсов, которые, однако, исходят из общих предпосылок и преследуют общие цели»[299]. При этом Шартье внес существенное дополнение в определение Бейкера: он поставил под сомнение тезис, согласно которому «поступки вытекают из высказываний, которые их обосновывают или оправдывают», и противопоставил логике слов логику «практик, предопределяющих общественные и интеллектуальные позиции данного общества»[300].
Практики и их словесная легитимация могли существенно расходиться. Например, развитие социокультурных пространств во Франции XVIII в. в конечном счете привело к подрыву придворной монополии на формирование интеллектуальной и политической моды. Однако между заявлениями участников общественных и литературных дискуссий и результатом их действий возникал зазор:
Если на словах деятели эпохи просвещения сохраняют уважение к власти и признают традиционные ценности, то на деле они создали такие формы интеллектуальной общности, которые предвосхищают самые смелые проекты революционного переустройства общества. ‹…› …между идеологическими заявлениями и «обычной практикой» существуют расхождения и даже противоречия[301].
Расхождения между авторским и издательским намерением, с одной стороны, и результатом политико-философского хода, с другой, являются одним из важных сюжетов и при интерпретации чаадаевской коллизии. Печатая резонансный текст и тем самым действуя как независимые интеллектуалы, Надеждин и Чаадаев volens nolens ставили под сомнение институциональную структуру пространства идеологических дискуссий. Они рассчитывали на эффект от свободной циркуляции собственных идей в публичном поле, подконтрольном представителям ответственных за цензуру ведомств.
Впрочем, проблема противоречия между мотивом и итогом политического жеста в случае с появлением перевода первого «Философического письма» в «Телескопе» заключается еще и в другом: непонятно, как Надеждин, опытный журналист, мог вообще счесть чаадаевскую статью подцензурной? Мы со всей очевидностью имеем дело со своеобразным коллективным помрачением: современникам было достаточно бросить беглый взгляд на французский оригинал первого «Философического письма», чтобы понять – речь идет о настоящей идеологической «бомбе», взрыв которой повлечет самые неприятные последствия для всех участников затеи (сочинителя, издателя, цензора)[302]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Переключение перспектив корреспондирует с логикой апокалиптического пророчества: «И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними» [Лк 13: 30]. См.: Зорин А. Л. «Особый путь России» – идея трансформационного прорыва в русской культуре // «Особый путь»: от идеологии к методу / Сост. Т. М. Атнашев, М. Б. Велижев и А. Л. Зорин. М., 2018. С. 36–51.
2
Ср.: «Ненависть к своему народу, усугубляемая любовью к народам чужим, выступает прямым следствием просвещения и правды» (Лотман М. Ю. Интеллигенция и свобода (к анализу интеллигентского дискурса) // Россия/Russia. Вып. 2: Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: история и типология / Сост. Б. А. Успенский. М.; Венеция, 1999. С. 141).
3
«Чтобы доверяться чаадаевским выпадам против России – не надо никакого ума, только брезгливость и презрение ко всему русскому. Чтоб эти выводы оспаривать – необходимо думать и воспитывать в себе великое (Чаадаевым прославленное) чувство национального патриотизма, христианской любви и терпения» (Прилепин З. Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы. М., 2017. С. 549).
4
Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы: Морфология и история / Пер. с ит. С. Л. Козлова. М., 2004. С. 300. Речь идет о книгах «Бенанданти» (1966), «Сыр и черви» (1976) и «Ночная история» (1989).
5
Там же. С. 312.
6
Там же.
7
О ходе процесса по чаадаевскому делу прежде всего см.: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. по подлинным делам Третьего отделения собств. Е. И. Величества канцелярии. Изд. 2. СПб., 1909. С. 361–464; Сапов В. Обидчик России // Вопросы литературы. 1995. Вып. 1. С. 113–140; Вып. 2. С. 56–75; Наволоцкая Н. И. «Дело Чаадаева». Документальная версия // Книгочей: Библиографический справочник для дела и досуга. М., 1999. Вып. 4. С. 74–85; и др.
8
В издании Надеждина прежде появилась небольшая чаадаевская статья «О зодчестве» и шесть его афоризмов о бессмертии души: Телескоп. 1832. № 11. С. 347–357.
9
Подробнее см.: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. по подлинным делам Третьего отделения собств. Е. И. Величества канцелярии. С. 418; Эльзон М. Д. Кем переведено «Философическое письмо»? (К истории закрытия «Телескопа») // Русская литература. 1982. № 1. С. 168–176; Сапов В. Обидчик России // Вопросы литературы. 1995. Вып. 1. С. 69. Участие Кетчера в переводе первого «Философического письма» является наименее очевидным и задокументированным.
10
Подробнее см.: Велижев М. Б. «L’affaire du Télescope»: к цензурной истории 15-го номера «Телескопа» за 1836 год // И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата / Сост. Р. Вроон, Л. Н. Киселева, Р. Г. Лейбов, А. С. Немзер, К. Ю. Рогов, Т. Н. Степанищева. М., 2008. С. 226–234.
11
Телескоп. 1836. № 15. С. 275.
12
В представлении Чаадаева научный и религиозный аргументы прекрасно совмещались друг с другом. Подобный взгляд был в целом свойственен и французским католическим философам, на труды которых ориентировался Чаадаев, см., например: McCalla A. The Mennaisian «Catholic Science of Religion»: Epistemology and History in Early Nineteenth-Century French Study of Religion // Method & Theory in the Study of Religion. 2009. Vol. 21. № 3. P. 285–309. О сочетании философии и веры в концепции Чаадаева см.: Obolevitch T. «The Madman» Appeals to Faith and Reason. On the Relationship between Fides and Ratio in the Œuvres of Peter Chaadaev // Peter Chaadaev: between the Love of Fatherland and the Love of Truth / Ed. by A. Mrowczynski-Van Allen, T. Obolevitch and P. Rojek. La Vergne, 2018. P. 55–72.
13
Телескоп. 1836. № 15. С. 276.
14
«Vous n’avez fait que céder à l’action des forces qui remuent tout ici, depuis les sommités les plus élevées de la société jusqu’à l’esclave qui n’existe que pour le plaisir de son maître» (Чаадаев П. Я. Избранные труды / Сост., примеч. и вступ. ст. М. Б. Велижева. М., 2010. С. 55; перевод Д. И. Шаховского: «Вы просто подались действию сил, которые приводят у нас в движение все, начиная с самых высот общества и кончая рабом, существующим лишь для утехи своего владыки»: Там же. С. 163).
15
П. Л. Майкелсон отмечает, что в интерпретации Чаадаева православие и католицизм из христианских конфессий превращались в две разные религии: Michelson P. L. Beyond the Monastery Walls. The Ascetic Revolution in Russian Orthodox Thought, 1814–1914. Madison; London, 2017. P. 48.
16
Подробную хронику московской фазы скандала см.: Мильчина В. А., Осповат А. Л. Дневник Александра Тургенева и «Философическое письмо» Чаадаева: хроника московского быта (по архивным материалам) // ШАГИ/STEPS. Т. 8 (2002). № 2. С. 152–172.
17
См.: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. по подлинным делам Третьего отделения собств. Е. И. Величества канцелярии. С. 418.
18
Подробнее см.: Оксман Ю. Г. Переписка Белинского // Литературное наследство. Т. 56. М., 1950. С. 232–233; Нечаева В. С. В. Г. Белинский. Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве» 1829–1836. Л., 1954. С. 399–401.




