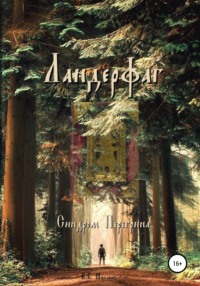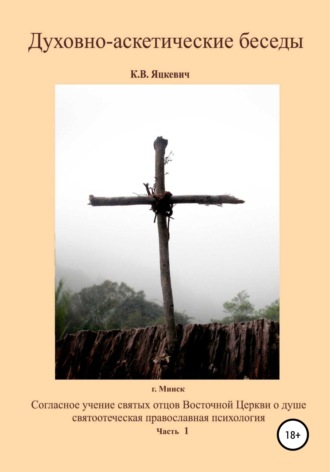
Полная версия
Духовно-аскетические беседы
– Значит, умное делание – это и есть постижение этих высших духовных законов ? – с некоторым воодушевлением переспросил монах, точно сделал какую-то догадку.
– Отчасти так, хотя и не совсем – ответил старец. – Умное делание – это делание ума особого типа, который лучше всего подходит для постижения божественных законов, поскольку этот ум сам подобен уму божественному и стремится к соединению с ним.
– А в чём состоит это подобие с божественным умом?
– Оно состоит в чистоте ума, его утончённости и безстрастии. Ум божественный – это ум совершенный, который безграничен, всеведающ и всепроникающ, как свет, а ум человека – это ум тёмный, ограниченный, невежественный и привязанный только к материи и веществу. Уму человека нужно пройти невообразимую школу роста и очистки, чтобы хоть как-то приблизиться к божественному.
Ведь божественный ум – это ум творца и создателя, движимого безусловной и жертвенной любовью ко всему сущему, а человеческий ум – это ум высшего хищника, ведомого страстью наживы и успеха любой ценой, который для достижения своих корыстных целей готов идти по головам, не считаясь ни с какими жертвами. Этот тип ума отцы считали умом диавола, который тот и внедрил его первым людям в незапамятные времена и задача спасения души – это освобождение от власти этого хищного и порочного ума, а умное делание – это и есть способ изменения ума хищника путём взращивания ума иного типа духовного, который и был утрачен при грехопадении.
– Значит, смысл всех церковных таинств – исповеди, причастия и покаяния – это изменение ума ?
– Точно, – с улыбкой заметил старец. – Изменение ума по учению отцов и доведение его до состояния совершенства – это и есть главная задача спасения души, поскольку подобное соединяется только с подобным и совершенный божественный ум может соединиться только с совершенным умом человека, который стал таким же чистым и утончённым, как сам свет и ум божественный.
– А как происходит это изменение ума человека ?
– Оно происходит по удивительному закону духовного роста, который есть закон божественный. Взращивание духовного ума во многом подобно взращиванию любого живого растения, которое с одного семечка может вырастать до большого дерева, если за ним ухаживать должным образом, поливать и питать солнечным светом.
Почти то же самое происходит и в человеческой душе, если в неё поместить некое духовное семечко и также ухаживать за ним, чтобы оно выросло в большое и плодоносное древо, питаемое духовным знанием, рассуждением и солнцем ума Бога.
– Ты хочешь сказать, отче, что духовный ум человека подобен древу ?
– Да, ум человека по учению отцов – это и есть древо познания добра и зла. Хищный и рациональный ум – это бесплодное древо, а духовный ум – это древо плодоносное, которое приносил добрый плод. Оба ума развиваются в одной душе, но один ум – это бесплодный сорняк, а другой ум – плодоносное древо. В притче о виноградной лозе Господь точно описал природу ума, как ветвистой лозы, по которой текут энергии жизни точно соки.
– А можно понять, как это всё устроено и работает в человеке?
– Отчасти можно. Поскольку человек состоит из тела и души, то корни растения ума телесного берут начало во внешнем телесном человеке и его головном мозге, но по мере роста и развития древа ума он как бы прорастает от головы через сердце во внутреннего душевно-духовного человека.
– А откуда у человека изначально появляется это растение духовного ума?
– растение духовного ума появляется у человека из духовного семечка, которое проникает в головной мозг и ум первый раз вместе с таинством крещения по слову «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.»
– Хорошо, а скажи мне, отче, что представляет собой это семечко и как оно проникает в ум ?
– Семечко духовного ума представляет собой частичку энергии божественного знания и откровения о природе души, её предназначении и спасении. Эта частичка знания, как энергия, буквально сеется или влагается в ум и головной мозг через проповедь по той же притче Христа о сеятеле.
Если почва сознания человека оказывается благодатной для духовного знания, это семечко прорастает, укореняется и начинает расти, подобно живому растению, но характер роста и направление определяет только сам человек направленностью своих мыслей и намерений в жизни.
– А Бог разве не помогает человеку? – переспросил монах.
– Бог, подобно солнцу, даёт всем только свет и теплоту, а человек должен сам использовать эту теплоту и свет для взращивания своего духовного ума. Если человек оказывается рачительным хозяином и добрым садоводом для своей души, то семя духовного знания прорастает, а если человек оказывается лодырем и сутяжником, почва его ума оказывается неблагодатной для духовного знания и это семечко просто погибает.
– Никогда бы не подумал, что умное делание подобно взращиванию растения, – удивлённо отреагировал монах. – Отче, а как человек определяет направление роста древа духовного ума ?
– Своей волей определяет и намерением. Я уже говорил тебе, что ум изначально, подобно глазу, обращён сугубо во внешний мир, поэтому если предоставить уму полную свободу, то он будет расти только вовне, проходя все стадии развития – рассудок, разум, интеллект. Такой тип ума называется рациональным или мирским, поскольку он обращён только к миру материи.
Духовный ум – это тот ум, который кардинально меняется, поскольку проходит через обращение и покаяние или полный разворот и потому он диаметрально меняет направление роста и начинает расти уже не вовне, а вовнутрь души в направлении духовного сердца.
Такой тип ума называется уже не рациональным и мирским, а обращённым к сердцу или религиозным и этот ум проходит другие стадии развития – рассудок, нравственно-религиозный разум, духовный ум.
Проще говоря, от выбора и воли самого человека зависит то, куда будет расти и расширяться его ум, разум и древо сознания или во внешний мир материи или во внутренний мир сердца. Умное делание – это уход за умом, который растёт исключительно во внутренний мир духовного сердца, а не во внешний. Понял?
– Понял. Но я не совсем понял то, как ум находит верное направление для роста именно к сердцу, а не куда-то ещё.
– Ум в своём росте может и заблуждаться в направлении, но первое время ему помогает инструмент нравственности и совести, который выступает внутренним навигатором, дающим подсказки. Совесть, как голос Божий в сердце, автоматически фиксирует правильность и неправильность любого выбора ума.
Правильный нравственный выбор человека всегда сопровождается внутренней радостью и облегчением, а выбор не правильный всегда сопровождается угрызением совести и тяжестью. Если человек прислушивается к голосу своей совести, то его ум развивается и растёт в верном направлении – точно в сторону сердца и наоборот. Вот почему на первом этапе религиозности так важна нравственность и чистота совести, которая и поддерживается посредством исповеди и причастия.
– Отче, а не в ущерб ли человеку, его душе и планам бывает то, что ум после обращения перестаёт расти во внешний мир и растёт только вовнутрь? Человек же при этом становится как бы закрытым для мира и мирского познания.
– В этом есть проблема. Первое время после обращения ума человек, действительно, теряет внимание к внешнему материальному миру и концентрируется сугубо на мире внутреннем. В это время религиозность полностью заполняет ум и человек оказывается в состоянии просака и слепоты, когда внешний мир уже потерян из фокуса внимания, а внутренний мир ещё не познан и не обретён.
В это время ум пребывает в наиболее неустойчивом и расщеплённом состоянии, подомном лёгкому помешательству, которое свойственно почти всем неофитам и новообращённым. У кого-то это помешательство держится долго, а у кого-то проходит довольно быстро.
– И как решается эта проблема ума в церкви ?
– Никак не решается или душепопечением. Дело в том, что по тем же духовным законам ум со временем синхронизируется сам собой и внешняя мирская часть ума постепенно приходит в некое равновесие с внутренней и обращённой сердечной частью. После этого сознание верующего несколько проясняется и уравновешивается, а на смену неофитской прелести и чрезмерной религиозной ревности приходит чувство рассудительности и меры.
– А от чего это зависит, ну в смысле от чего зависит то, придёт ум в равновесие или нет?
– Здравомыслие неофита в это время целиком и полностью зависит от его духовника и душепопечителя, который и должен знать и контролировать процесс обращения ума. Если душепопечитель обладает рассудительностью и владеет учением отцов, он может направить ум чада в верном духовном направлении, а если душепопечитель сам дурак и невежда в согласном учении, то чад своих он сделает такими же дураками и будет бесконечно водить кругами вокруг своего прихода, как слепых овец.
Найти сегодня духоносного и рассудительного душепопечителя – это величайшая редкость и удача уж ты мне поверь. Это было удачей и раньше, но сегодня схоластика всё заполонила и большинство пастырей – это не духовники, а скорее менеджеры – утешители и социальные работники.
– Отче, а бывают при этом какие-нибудь сложные или непредвиденные ситуации ?
– Сколько угодно, – ответил старец. – Ум может так резко обратиться и подвинуться в сторону сердца и Бога, что полностью утратит из вида материальный мир и тогда человек превратится в ослеплённого, ревностного и безумного религиозного фанатика, для которого кроме религии не существует больше ничего, это одна крайность.
Но ум может и вовсе не обратиться, а лишь теоретически принять идею Бога, оставшись совершенно мирским и обращённым к миру, тогда человек становится религиозным фарисеем и лицемером и это уже другая крайность.
– А какой путь обращения и развития ума считается самым оптимальным?
– Отцы говорят, что наиболее верным в этом отношении является путь золотой середины, когда ум расширяется и растёт одновременно в обеих направлениях, не теряя при этом связи с миром и с сердцем или Богом. При этом направление Бога является главным и приоритетным. Это самый трудный путь и здесь всё зависит от гибкости ума и рассудительности.
Древние отцы практиковали прямой путь обращения к Богу через сердце с полной потерей мира и полным отречением. Этот путь был действенным, но требовал самого грамотного душепопечения, поскольку ученик на время становился совсем слепым душевно и беспомощным. Для современного человека такой путь уже не подходит, поскольку современному человеку нужно всегда сохранять здравый ум. Именно поэтому сегодня более правильным является путь золотой середины.
– А в чём вообще состоит главная трудность перехода от ума мирского к религиозному ? – поинтересовался молодой монах.
– Трудность этого перехода в том, что мирской ум и религиозный существуют по разным законам и имеют разные системы ценностей и ориентиров. Именно поэтому, когда у человека в голове после обращения имеют место сразу два ума одновременно – мирской ум головы и религиозный ум сердца, они постоянно конфликтуют между собой и нужно очень много внимания, терпения и сил, чтобы их согласовывать.
Этот процесс конфликтования и согласования двух умов носит у отцов название внутренней брани. В ходе этой брани два ума как бы постоянно бранятся, меряются силами и перетягивают друг друга. В одно время берёт верх ум религиозный от сердца, а потом вдруг опять пальму первенства захватывает ум мирской от головы и так продолжается довольно долго.
– А существует ли способ разрешения этого противоречия ? – поинтересовался монах.
– Существует. Обычно это противоречие решается перемирием между умами, которые как бы договариваются между собой внутри души о разграничении полномочий.
Половину полномочий себе берёт ум мирской, управляемый эгоизмом, а другую половину полномочий себе берёт ум религиозный, управляемый сердцем, моралью и нравственностью. И в таком двойственном положении человек очень комфортно чувствует себя как бы будучи и с миром и с Богом одновременно.
– Разве это правильно с точки зрения христианства и учения отцов ? – возмутился монах.
– Нет, это не правильно, поскольку это типичное фарисейство и самообман, но так современный верующий чувствует себя наиболее комфортно и потому абсолютное большинство верующих и священства всех конфессий пребывает именно в таком двойственном положении сидения на двух стульях одновременно – и с миром и с Богом.
– Но ведь получается, что они и не с одним и не с другим до конца, так ?
– Так, но их это святое заблуждение вполне устраивает. Это и есть причина моральной обусловленности христианства и отсутствия подлинной духовности, которая предполагает нарушение этого фарисейского равновесия в пользу духовного ума и умное делание – это то внутреннее молитвенное усилие, которое выводит из этого равновесия и отдаёт предпочтение развитию именно духовного ума.
– Отче, а что именно выводит ум из этого комфортного состояния равновесия, заставляя двигаться дальше и расти в сердце?
– Неистребимая тяга к духовному познанию и сила внутреннего самопонуждения по слову «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его». За этой силой стоит сила духовного намерения.
Любой человек по определению ленив и труслив, поэтому изменение себя и своего ума внутренним усилием – это удел считанных людей, обладающих трезвостью, решительностью и самодисциплиной. Из них и получаются те, кто несмотря на большинство, в одиночку переходит от более комфортного телесно-душевного христианства к духовному с которого и начинается умное делание.
– Но ведь человек при этом ещё не осознаёт, что он занимается умным деланием ?
– Нет, конечно. Переход к умному деланию происходит тогда, когда человек понимает, что выше ступени нравственной религиозности, как телесно-душевной, есть ещё более высокая и заоблачная ступень духовной религиозности.
Когда человек видит это внутреннее пространство, открывающееся ему из духовного сердца, как малой клети, он принимает для себя решение не останавливаться на уровне религиозной нравственности, а расти и расширяться дальше вверх до самого духовного сердца и за его пределы в большую клеть небесную.
– А если ум не принимает решения расширяться и расти, что тогда ? – спросил монах.
Старец немного задумался, почесал голову и ответил:
– Тогда… возникает душевный порок окамененного нечувствия или закостевания ума в голом морализме и формальном благочести без перехода к духовному уму. Такой человек, даже в священническом сане, будучи религиозным и набожным, останавливается в духовном росте и до смерти остаётся полностью бездуховным и закрытым для высшего познания и даров Духа. Это духовная смерть при жизни.
– Я знаю не мало таких среди нашего духовенства, – с грустью заметил монах.
– Это трагедия современной религиозности и я могу лишь с грустью констатировать тот факт, что в этом состоянии духовного нечувствия и невежества пребывает почти всё современное христианство, включая и православие, и путей выхода из него я не вижу.
Это является трагедией для православия потому, что именно умное делание по учению отцов и было самой суть подвижничества и подлинного славления Бога, чего не было больше ни в одной конфессии и религии. С утратой умного делания православие утратило свою духовную суть и теперь мало чем отличается от католицизма и протестантизма.
Старец замолчал и внимательно посмотрел на монаха. Тот сидел опустив глаза и размышляя над словами старца, которые тронули его до глубины души.
– Я не могу принять твои слова, отче, поскольку они режут мне душу и сердце. Неужели всё так плохо?
– Так плохо было ещё 150 лет назад, когда многие монастыри по слову святителя Игнатия Брянчанинова «из пристанищ для нравственности и благочестия обратились в пропасти безнравственности и нечестия», а сегодня ещё хуже, поэтому тут нечему удивляться и сокрушаться, а нужно принимать реальность такой, какая она есть, – ответил старец.
– Как бы я хотел, отче, всем сердцем желал, чтобы монашество снова обрело силу и духовное знание об умном делании снова зажгло умы и сердца подвижников.
– Ну ты и размечтался – сказал старец, поправляя куколь. – Всему своё время, ты не забывай о том, что Дух дышит где хочет, а не только в помещении церкви или храма. То, что умного делания нет в церкви, не значит, что его нет вообще. Смельчаки и подвижники есть были и будут во все времена и среди них обязательно найдутся те, кто вникнет в Предание отцов, разберётся в согласном учении о душе и из отдельных крупиц знания соберёт мозаику умного делания. Может быть это будешь даже ты.
Старец замолчал и внимательно посмотрел на монаха. Монах смотрел в глаза старца и снова увидел знакомый свет в его левом глазу, но на этот раз он не испугался и не отдёрнулся, поскольку этот свет не пугал, а скорее завораживал и притягивал его точно далёкий свет маяка на берегу океана.
– Выйти осознанно из зоны религиозного комфорта в наше время подлинный подвиг, – разорвал тишину голос старца. На это способны в наше время только молитвенники, кто практикует молитвенное делание по учению отцов. Так что хорошо запомни – умное делание – это молитвенное делание или делание умной молитвы.
Из всех таинств только молитва может помочь уму выйти из состояния нечувствия и достичь того желанного момента, когда душевный нравственно-религиозный разум становится душевно-духовным умом.
Это очень важный момент, поскольку это и есть момент взросления ума и успешного прохождения им двух предыдущих состояний ума телесного и душевного, которые подводили к высшей ступени познания и уму духовному. Очень не многие подвижники поднимаются на эту ступень, которая есть ступень самого глубокого осознания человеком собственной порочности.
– А что символизирует эта ступень? – поинтересовался монах.
– Она символизирует полную, но ещё не окончательную победу души над страстями и торжество доминанты высших добродетелей, когда ветхий человек умаляется до предела и в нём впервые пробуждается подлинно духовный ум, который есть ткань небесного тела нового духовного человека.
– А в чём особенность и отличие этого пробуждающегося душевно-духовного ума ?
– Во всём. Если раньше в состоянии нравственно-религиозного разума человек мог сидеть на двух стульях одновременно – с миром и с Богом, то теперь для человека нет никакого другого места, кроме Бога.
Если раньше человек питал иллюзию о том, что можно не распинать и не умерщвлять своё эго окончательно, как инструмент рационального ума и мышления, то теперь перед человеком открывается эшафот и крест распятия собственного эгоизма и рационального мышления.
Если раньше человек не считал необходимостью полное отречение от мира и всех грязных дел его, то теперь он ясно осознаёт, что без отречения он просто не сможет двигаться дальше и духовно расти.
Всё это и есть результат практического приближения ума к духовному сердцу и это свидетельство того, что ум человека из семечка вырос до крепкого молодого дерева с широкой кроной, на которую падают прямые лучи духовного сердца и солнца Бога и на этом дереве начинают завязываться первые удивительные плоды Духа и высшего духовного познания.
– Значит, библейская метафора Древа познания – это не миф и не вымысел, а точный образ человеческого ума ? – с недоумением переспросил монах.
– Да, именно так учат святые отцы Восточной Церкви и преподобный Никита Стифат, который говорит, что «Древо же знания, конечно, познание и добра и зла, это наша природа и устройство людей. Ибо человек есть вместилище ведения и добра и зла ибо он действительно является вечноцветущим Древом знания».
– Отче, а что бывает с умом, когда он достигает самого духовного сердца, в смысле как меняется сознание и восприятие ?
– Оно меняется радикально, поскольку из духовного сердца, как малой клети, человеку открывается большая клеть небесная и человек открывает для себя всё безбрежие обителей Царства Божьего, как полноценных миров, до краёв наполненных удивительной жизнью, которой «не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку».
Это видение безбрежия духовного мира зрением души так потрясает человека, что он окончательно теряет остатки убеждённости в том, что материальный мир – это единственный из существующих.
– А что бывает потом ?
– Потом у души возникает естественное желание попытаться как-то исследовать этот новый мир и его духовных обитателей и это очень ответственный и рискованный момент. Это и есть тот момент, когда со ступени Вола человек переходит на ступень Льва, как ступень практического овладения духовной силой. В массовой религии эта ступень закрыта и табуирована, поэтому на этот шаг отваживаются в основном одиночки и отшельники, идущие путём древнего духовно-аскетического знания.
– А чем так опасна эта ступень ? – спросил монах.
– Она опасна тем, что на этой ступени человеку предстоит самая тяжёлая схватка и с самим собой и с духами зла, которые обнаруживают того, кто открыл дверь духовного сердца и вышел в духовный мир. Именно на этой ступени человек окончательно понимает, кто был его подлинным врагом, кто тайно обитал в его духовном сердце как змей, который и искажал все помыслы человека при жизни. Этим врагом оказывается эгоизм, как основа хищного ума, который и изменял человек в ходе своего подвижничества.
– И чем обычно заканчивается эта схватка ?
– Смертью, конечно, чем же ещё, только смертью символичной, но не менее болезненной. Момент окончательного умерщвления собственного эгоизма человек переживает во всей полноте как момент символической смерти всего своего ветхого существа, как основы страстности и смертности, но вместе с тем он испытывает и огромное облегчение от того, что победил себя.
– Это испытывают все ? – поинтересовался монах.