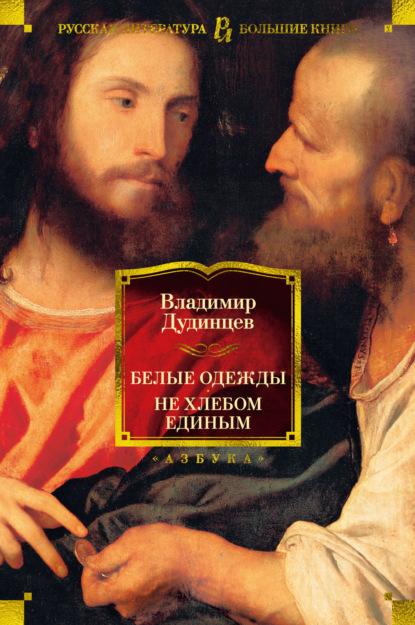Полная версия
Перед зеркалом. Двойной портрет. Наука расставаний
Он опрокинул стул, сдернул с окна простыню. За окном лежал университетский сад и черный снег. В снегу угадывались голые клены. В комнате не стало светлее.
Он нервно сдавил папиросу зубами, вернулся на кровать. Нельзя было не курить, эти цветные кольца уже давили ему на глаза, росли, вытягивались спиралями.
Он дрожал, сидя на своих ладонях, грызя папиросу, приходя в отчаяние. Но ведь должны же они где-нибудь лежать, эти проклятые спички!
Он тяжело перебросил ноги по ту сторону кровати и наугад сунул руку куда-то в «где-нибудь», в черное пространство между стеной и подушкой.
Крысиный писк ошеломил его, он наткнулся рукой на крысу. И вдруг его качнуло от ярости. Он сдернул подушку и с силой бросил ее туда, откуда шел писк, где жрала его картошку крыса. Мягкий клубок метнулся по кровати, он упал на него грудью, сдавил его, смял в пальцах. Спичек не было, не было, не было…
Он душил крысу пальцами. Она визжала и царапалась. Он не чувствовал боли. Писк ее перешел наконец в крик, почти человеческий, она просила о помощи, умоляла о пощаде. Обои гнулись и коробились, перевернутое дно падало на ее голову. Она умирала…
Через несколько минут он нашел спички под подушкой. Ругая себя неврастеником, он осмотрел руки. Руки были исцарапаны, искусаны. Кровь черными пятнами лежала на простыне и одеяле…
14– Вот тут последнее время говорят, что с христианством или вообще с религией нужно бороться. Искоренять! Ну, этого я не знаю. Может быть, и нужно. Вероятно, нужно. Я только в одном несомнительнейшим образом уверен: прежде чем его искоренять, христианство, его насаждать следует. Вот мой сын Александр… архитектор. Малоспособный, в сущности, человек, хотя я его последнюю книжку об этих, как их… кажется, футуристах, – прочел с удовольствием. Так вот, приезжает он как-то в деревню. Ну, по дороге на него что-то волки, если не ошибаюсь, напали. Он, понятно, отбивался, даже стрелял как будто или горящие сучья бросал. Ему, как человеку с воображением, все это интересно было. Приехал он, таким образом, в деревню, – а в деревне переполох – свадьбу ждут, где-то по дороге из города свадьба застряла. Рассказал он про волков – и вот, видите ли, плач в народе поднялся невообразимый. Прямо стон пошел по деревне. Он сперва ничего понять не мог, потом ему разъяснили. Вся деревня, видите ли, решила, что это новобрачные в волков превратились. Так это ж именно и есть язычество! Вот я и говорю – сперва нужно насаждать в деревнях христианство, а уж потом с ним бороться… Потом уж и искоренять!
Ложкин, съежившийся, маленький, потонувший в шубе, сидел за овальным зеленым, почти игорным столом в зале заседаний Научно-исследовательского института. В зале было холодно, он грел руки дыханием, рассеянно смотрел на портрет Веселовского, висевший над приземистым книжным шкафом, и слушал речи Вязлова о язычестве и христианстве.
Напротив него сидел одноглазый гном, исследователь японской литературы, бог весть почему явившийся на собрание, посвященное Гоголю с этнографической точки зрения. Гном саркастически улыбался, слушая речи Вязлова. Он, очевидно, понимал, что дело не в борьбе между язычеством и христианством.
«Дело не в борьбе между язычеством и христианством, – смутно подумал Ложкин, – тогда в чем же, собственно говоря, дело?»
Профессор Жаравов вмешался в разговор о христианстве. Нервно примаргивая одним глазом, он тронул Вязлова за рукав и быстро откинулся на спинку стула.
– Вот, кстати, об искоренении, – сказал он, – знаете ли вы, дорогой Иван Ильич, кого сейчас в Петербурге обвиняют преимущественно в искоренении религии?.. Меня.
Дергая глазом, он посмотрел на улыбающееся лицо и сам усмехнулся с ехидством.
– Не смеюсь, не смеюсь! Меня! Случилось мне, знаете ли, с год назад устроить на службу в Академию наук одного молодого человека. За него просил, если не ошибаюсь, милейший наш Константин Алексеевич, которому он приходился каким-то отдаленным родственником.
Он поискал отсутствующего Константина Алексеевича и очень живо изобразил его рукой и движением бровей.
– На днях сей молодой человек – я его, признаться, даже и не узнал при встрече – является ко мне. Держится он… я бы сказал – покровительственно. Ну да это бы еще куда ни шло! Но с первых же слов начинает он меня укорять… За что, как вы думаете? За то, видите ли, что я в своих книгах о первых веках христианства оправдываю еретиков и таким образом подрываю основы религии. «Вы, говорит, тем самым вступаете в теснейшую связь с большевиками!»
Все рассмеялись, даже одноглазый гном. Профессора Жаравова меньше всего можно было упрекнуть за связь с большевиками. Всем было отлично известно, что он даже на новую орфографию не сдавался. Собственно, настоящая слава его началась с какой-то юбилейной статьи, в которой, желая подчеркнуть свое несогласие с реформой правописания, он не употребил ни одного слова, писавшегося ранее через «и краткое» или «ять». Да, он не был ни в чем замешан! Связь с большевиками? О, это было смешно, конечно! Все смеялись.
Только Ложкин, уйдя в шубу, как в монастырь, беспомощно поводил по сторонам детскими глазами. Он очень хорошо знал, что разговор шел не об искоренении религии. Искоренение религии – это был эвфемизм.
Он встретил взгляд Вязлова, в котором почудилось ему легкое сожаление, и с внезапной неприязнью принялся копаться в своем портфеле. Он чувствовал себя одиноким, затерянным, усталым.
Когда начался доклад, он учинил суровый допрос над самим собой.
«Почему ты сидишь здесь, вот за этим столом, что ты здесь делаешь, Степан Степанович?» – спросил он самого себя строго.
«Я нахожусь в Исследовательском институте, тут доклад читают, а я вот слушаю», – отвечал он самому себе мысленно и смиренно.
«Эти люди, с которыми ты знаком десять, двадцать, тридцать лет, – они занимаются той же наукой, что и ты? Ты любишь их? Что ты о них знаешь?»
«Да, да, они занимаются той же наукой, что и я. Я знаю о них… А в самом деле, что я знаю, ну хотя бы вот об этом человеке? – едва ли что не вслух спросил самого себя Ложкин, испуганно глядя на прибеднявшегося, похожего на дьячка профессора-слависта. – Я знаю о нем… что прусская Академия наук обвиняла его в плагиате… что русская Академия наук, обидевшись на прусскую, избрала его действительным членом. Что еще?.. Ах да! Обвиненный в плагиате, перепуганный, он каждую лекцию начинал со слов: „Конечно, я звезд с неба не хватаю…“ Еще? Плохо живет с женой. Еще?.. Как, больше ничего? Но ведь он же, кажется, мой университетский товарищ?»
Так он перебрал всех, одного за другим. Он никого из них не любил. У него не было среди них друзей. Он был чужим среди них. Но зато о каждом он знал по два, по три анекдота.
15Едва начался доклад, как все уже спали. Все!
Даже те, которые еще красили усы и считали себя молодыми. Как будто сонный ветер раскачивал над круглым столом эти седые, полуседые и лысые головы. Гном, закрыв единственный глаз, откровенно храпел носом. Вязлов тихо дремал, опершись кулаками на палку, подбородком опершись в кулаки. Жаравов, как нищий, мотался над столом, мощно сопя, шлепая губами. Рыхлый, похожий на бабку незнакомый старик-хохотун беззаботно улыбался во сне и чмокал губами воздух.
И только Ложкину не спалось. Он невольно прослушал часть доклада. Заслуженный, но растерявшийся историк русской литературы с наигранной уверенностью убеждал, что все гоголевские типы делятся на небокоптителей чувствительных, небокоптителей рассудительных, небокоптителей активных и небокоптителей комбинированных.
Его официальный оппонент, бывший учитель гимназии, избранный в Исследовательский институт как дальний родственник одного из секретарей, смотрел на него, идиотически открыв рот, свалив голову набок.
Ложкин бесшумно собрал книги, застегнул портфель и покинул лекторию. Он бы, пожалуй, не потерял времени даром и на заседании. Но самого нужного списка повести, которой он занимался, не было под руками.
А сбежать домой он никак не мог. После доклада должна была обсуждаться кандидатура одного из его учеников. Он постоянно устраивал своих учеников – от первого студенческого реферата до диссертации они были окружены его хлопотами, заботами и указаниями.
Он примостился в какой-то каморке. Здесь обычно сидела сердитая сторожиха со своими ключами. Сторожихи не было – ну и бог с ней! Но вот не было также и самого нужного списка – «Повести о Вавилонском царстве».
Он, впрочем, не сомневался, что конъектура верна. Тихонравов ошибся, Жданов предлагал неверное чтение. Загадочное имя Малкатшка, Малкатошва, которое сбило с толку редактора румянцевской Палеи, было, несомненно, древнееврейским Malkat-švo, что значило по-русски – царица Савская. Весь процесс подмены был ему совершенно ясен. Он не мог представить себе это имя в греческой транскрипции! Да, несомненно, источником загадочной повести был какой-то древнееврейский текст, два слова из которого остались не переведенными на русский. Два ли? Насчет второго он был еще не вполне уверен – одного списка, и самого нужного, не хватало.
Сегодня вечером он проверит свою догадку, завтра он переговорит с гебраистом, а через две-три недели он, вероятно, будет читать о своем открытии в Обществе древней письменности на Фонтанке. И снова седые головы, клонимые сном, но как бы клонимые ветром, будут раскачиваться над столом и дремать, краешком уха слушая историю текста древнерусской «Повести о Вавилонском царстве».
«И обручи за себя царевну, дщерь перского цря, и повеле ей внити въ полату стекляную. А самъ седе на црскомъ месте стекляномъ. И црца къ нему въниде въ полату стекляную и видевъ црца мостъ i показася ей вада. И опадоша оу црци порты ея. Црь же видевъ тело ея. И пусти огнь въ полате. И подпали нижная ея власы…»
А проснувшись, будут возражать, и, должно быть, очень дельно. «Повесть о Вавилонском царстве», ого! Кому из них неизвестна литература вопроса?
Вздохнув, он открыл портфель и разложил книги. Прекрасно сохранившийся, но поздний текст Синодального списка привлек его внимание. Он заново принялся читать его, стараясь не слушать доклада о небокоптителях, который, медлительно журча, струился где-то за стеной, как журчит и струится медлительная ночная вода в постаревших водопроводных трубах.
Но когда он встал, найдя в изученном тексте десятки мелочей, подтверждавших его догадку, за стеной уже ничего не было слышно.
Он сунул книги в портфель и торопливо прошел в зал заседаний. Зал был темен и гол, окна, тусклые, как слюда, светились от снега или от фонарей на набережной. Стулья, еще хранившие движенье вставших из-за стола людей, были отодвинуты от стола в беспорядке.
Очевидно, заседание уже окончилось.
Ложкин растерянно шагнул назад и, стараясь не стучать, притворил за собой тяжелую дверь.
Что за досада, как же могло случиться? Зачитался, забыл, проморгал и доклад… Да бог с ним, с докладом! Но кандидатуру! Ну, как его провалили?
Подсчитывая в уме всех, кто мог бы голосовать против его ученика, откладывая голоса на пальцах, он спустился вниз, в катакомбы, занятые нижней канцелярией.
Он наткнулся в темноте на мусорный ящик и в рассеянности извинился перед ним. Тусклая лампочка горела над часами. Он взглянул на часы и ужаснулся! Сколько же времени, однако, просидел он в каморке сторожихи над Синодальным списком? И где она, эта злосчастная старуха, – никого нет вокруг, а входные двери заперты на ключ. В продолжение двух-трех минут он безуспешно, но с грохотом сотрясал их…
Старуха сидела по вечерам вот на этой лавочке, рядом с прозекторской. Она сидела без всякой нужды на этой лавочке десятки лет и вот теперь, в самую нужную минуту, пропала. Должно быть, шатается где-нибудь по аудиториям! Или – хуже того – ушла домой и унесла ключ с собой. Еще заночевать тут придется, пожалуй. Но, может быть… А в самом деле, может быть, двери Восточного факультета еще открыты!
Когда он возвращался, катакомбы нижней канцелярии, казалось бы изученные еще в студенческие времена, показались ему до странности незнакомыми. Откуда взялись все эти ниши, и закоулки, и низкие своды, едва ли что не поросшие мхом? Не те места, чужое здание, в самом деле, какие-то двенадцать петровских коллегий.
Ворча что-то, он спустился из коридора по лестнице Восточного факультета. Да что ж это такое, в самом деле! И эти двери были закрыты.
Тихий, маленький, волоча шубу, он вернулся в коридор и прикорнул, грея руки о полуостывшие трубы парового отопления.
Он сидел напротив пятой аудитории. Пятая, да, да, он помнит ее… Здесь читал когда-то… Здесь читал когда-то покойный…
И вдруг он решил, что его закрыли нарочно. Над ним выкинули фортель. Над ним сыграли дурную шутку. Завтpa всем будет известно, что он, поджавшись, как петух на шестке, провел целую ночь в пустом университетском здании. Выдумают, что ночевал под партой, выжил из ума, не нашел другого места! Будут ругать прозектора, сторожиху, выражать сочувствие, а втихомолку смеяться, смеяться и смеяться.
Взъерошенный, нахохлившийся, размахивая портфелем, и точно похожий на старого, облезлого, взбешенного петуха, он вскочил и вприпрыжку полетел по коридору. Но тут же и успокоился. Пустое, кому бы в голову пришло сыграть с ним такую штуку? Кто мог бы предугадать, что, не замеченный никем, он до поздней ночи засидится в каморке сторожихи над Синодальным списком? Да у него и врагов-то нет, если не считать… И он тотчас же насчитал врагов с десяток.
Гулкий стук шагов раздражал его. Или, быть может, пугал, – он в этом сам себе не хотел признаваться. Он сел. Он сел напротив одиннадцатой аудитории. Одиннадцатая, да, да, он ее помнит, это та, что с мемориальной доской… Здесь читал… Здесь читал покойный…
Он туманными глазами посмотрел вдоль коридора. Коридор уходил в пространство, в боязнь пространства.
Носовым платком профессор долго протирал стекла пенсне. Боязнь пространства… Он, помнится, страдал этой болезнью – в гимназии, в детстве
Раздумье на него напало. Этот пустой, ночной, незнакомый университет внезапно причудился ему разоренной страной… Это был плацдарм, на котором только что кончилась глухая война, проигранная его, профессора Ложкина, поколением. Да, его поколение проиграло войну и отступило – с потерями, которых не перечтешь, с непоправимыми потерями одиночества, старости и смерти. И предательства! Неудачники их предавали ради карьеры. Перебежчики, которые дорвались наконец до рублевого места.
Что же касается его, профессора Ложкина, так он просто за ненадобностью брошен в этой разоренной стране, на пустом и гулком пространстве плацдарма. Он проиграл войну. Кому нужны теперь все эти повести о Мамаевом побоище и Вавилонском царстве? Да, он проиграл войну. Он потерялся. Его потеряли.
Заложив руки за спину, он долго стоял перед книжным шкафом, разбирая названия книг на почерневших корешках.
– «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви», – прочел он вслух и хмуро пожевал губами.
Не-ет, он совсем не тут стоял, этот словарь… Болховитиновский словарь? Он не тут стоял. Тут всегда, помнится, сборники отделения, сборники русского отделения стояли.
Махнув рукой, он прошел дальше. Ничего особенного, он мог бы уснуть и сидя. Но ведь не заснул же он на докладе, когда все, решительно все спали. Ну вот ему и сейчас не спится.
Он добрался наконец до того места университетского коридора, которое никогда не любил. Которое он тридцать лет не любит. Коридор был неодинаков для него. Это место принадлежало, кажется, физическому кабинету. Или, вернее, скелету физического кабинета. Скелет болваном торчал в окне. А, бог с ним…
Крякнув, профессор повернулся и пошел обратно, по направлению к библиотеке.
Тридцать лет… Э-хе-хе! Тридцать лет тому назад он был приват-доцентом. Больше всего он боялся, тридцать лет назад, наврать название или перепутать дату. Тогда не наврал… А теперь случается, что и врет. Ничего особенного, случается, что и врет дату!
Мутный свет геометрическим рисунком ложился на квадратики паркета. Пожалуй, он не пойдет вниз, в канцелярию, чтобы посмотреть на часы. До утра еще много времени, он еще успеет. Смотреть на часы – ведь это единственно и остается ему нынешней ночью делать. Не стоит повторять это развлечение слишком часто. О чем он думал?..
Он снова устроился возле парового отопления, подперев голову руками.
Нет, поздно гнаться за второй молодостью, если первая убита на… на науку? Кажется, на науку!
В полузакрытых, почти уснувших глазах его мелькнула и задержалась на мгновенье в сознании полуоткрытая дверь одиннадцатой аудитории. Он некоторое время смотрел на нее, соображая. Потом сон прошел.
Очень бледный, с торчащими ушами, совершенным японцем, он вскочил со скамейки, забыв на ней портфель и шляпу. Аудитория была, разумеется, пуста. На него пахнуло пылью, мутный утренний свет лежал между исчерканных парт. Он приостановился в дверях и слегка кивнул головой. Это можно было, пожалуй, счесть поклоном. Он поклонился. Он вел себя так, как если бы в аудитории его поджидали студенты. Как в гипнотическом сне, он поднялся на кафедру и, слегка согнувшись, медленно опустился на стул.
Нет, никогда еще, ни даже во время первых лекций, не билось сердце так сильно, как оно бьется сейчас, перед этой пустой аудиторией.
Но вот о чем же читать? Об одиночестве? О старости? О чем же все-таки, кроме истории текста «Повести о Вавилонском царстве»?
Он туманными глазами посмотрел перед собой на сонные, пыльные, исчерканные парты. Потом на мемориальную доску: «Здесь читал адъюнкт-профессор Николай Васильевич Гоголь-Яновский».
– Так вот не сдаюсь же, – сказал он упрямо и, потирая пальцами лоб, повторил еще раз, немного громче: – Не сдаюсь!
Скандалист
1Заколдованный круг между архивными шкафами был разорван. Кекчеев был произведен в редактора.
Граница шума, производимого Халдеем Халдеевичем, осталась позади. Сам Халдей Халдеевич вдруг стал чрезвычайно маленьким, чрезвычайно сверхштатным человеком, которому можно было делать выговоры, которого можно было не замечать.
Но, разрастаясь, Кекчеев-младший стал удивительным образом напоминать своего отца. Подражая Кекчееву-старшему, он начал курить трубку. Он научился пустыми глазами смотреть на человека, который был ему не нужен. Он спускался по лестнице, неся впереди себя живот, который был еще сравнительно невелик, но уже отлично нырял в двери. Так нырял в двери только один живот во всем Ленинграде – без сомнения, тот самый, который придавал такой добродушный, маститый и даже ласковый вид Константину Ивановичу Кекчееву-старшему. Но вместе с тем он был как-то мельче отца. Настоящего размаха у него не было. Он был честолюбивее, быть может – самонадеяннее, но мельче. Он слишком спокойно рос, чтобы рисковать своим благополучием.
Самым важным последствием назначения было то, что редакторские обязанности привели его на шестой этаж.
К шестому этажу в издательстве было двойственное или даже тройственное отношение. Второй, третий и пятый относились к нему по-разному. О нем ходили сомнительные слухи. Его называли этажом разговорных комнат.
Это был почти клуб. Это был почти деловой клуб. Для того чтобы он стал литературным, не хватало сравнительно немного – самой литературы.
Писатели не переводились в этом клубе. Они назначали в нем свидания – деловые, любовные, литературные, они рассказывали о своих замыслах, плакались на безденежье, разъясняли руководителям шестого этажа свою философию, политику, идеологию. Эти разговоры они прерывали только для того, чтобы спуститься вниз, в кассу.
Они становились в очередь. Лысый кассир, похожий на Тараса Бульбу, просовывал в окошечко ордера. Он был равнодушен, лысый кассир. Он даже и не подозревал, разумеется, что никогда еще литература не стояла так близко к кассе. Она проходила перед кассой и говорила вполголоса.
Но, поднявшись на шестой этаж, в клуб деловой, почти литературный, она находила новые слова. Прогулки вниз, в кассу, освежающим образом действовали на ее философию, политику и идеологию.
Кекчеев и раньше терся среди писателей. Еще студентом ему случалось встречаться с ними на вечерах новогодних, литературных, юбилейных. Он пил на этих вечерах со всей старательностью первокурсника, который твердо решил испытать все преимущества молодости. Если после третьей рюмки его не рвало, он клал еще молодую, но уже сластолюбивую руку на колено своей соседки.
Писателей он и тогда не любил. Но теперь, по служебным соображениям, очень высоко ценил свое знакомство с ними. Он понимал, что издательство жило борьбой за работу, которую отбирала Москва. Москва – огромная, деловая, казавшаяся безошибочной – стояла над издательством и сомневалась в целесообразности его существования. Она выглядела победительницей – и, стало быть, ее нельзя было судить. Она суровой рукой уменьшала сметы, сокращала штаты. Скептическое дыхание ее лежало на каждом проекте.
Для того чтобы жить, нужно было повертывать работу казовой стороной – именно поэтому в издательстве больше всего ценились люди, располагавшие личными связями с писателями, умевшие по-деловому использовать эти связи.
Но однажды Кекчееву случилось быть свидетелем происшествия, которое чуть ли не обернуло вверх ногами все его размышления о писателях как казовой стороне издательского дела.
2По комнате из угла в угол расхаживал, драматически взмахивая руками, писатель Роберт Тюфин. Кекчеев тотчас узнал его – по великолепным глазам, по шубе, с великолепной небрежностью наброшенной на широкие плечи.
Тюфин был сухощав, широкоплеч, размашист. Имя его как нельзя лучше к нему подходило. С одной стороны, он был именно Робертом, даже Робертом-Дьяволом, с ораторским пафосом, с актерскими движениями и с рассказами, шикарными, как кинематограф, с другой – Тюфиным, стало быть, человеком сердечным и нечиновным.
Дни, когда он ходил Робертом-Дьяволом, были тяжелыми днями для его жены, друзей и издателей. Он ходил слегка согбенный, как бы под тяжестью наследства, завещанного ему всей русской литературой, говорил какие-то высокие, но абстрактные слова и начинал покровительствовать прохвостам.
Просто Тюфиным он был приятнее, тоньше и умнее. Поэтическая шевелюра его, когда он был просто Тюфиным, выглядела дьячковской.
В кресле у письменного стола торчал, съежившись, старый стриженый и седой усач. Усач с наслаждением чесался. Он был пьян. Он засыпал – и, проснувшись, со свистом выпускал воздух на краснощекого редактора-здоровяка, который сидел за столом в иронической позе.
У окна, заложив руку за борт пальто, гордо вскинув голову, стоял известный не только Кекчееву поэт с надменным выражением лица. Он не слушал Тюфина, но на усача смотрел свысока. Очевидно, само поведение усача – то, что чесался и засыпал, – казалось ему оскорбительным.
– Ли-те-ра-ту-ра! Что такое, ты думаешь, литература? – значительно округляя глаза, говорил Тюфин. Он обращался к редактору, который, слушая его, хладнокровнейшим образом копался в принесенной Кекчеевым корректуре.
– Литература – это организм! Все, что я написал, – органично! Эпоха!
Здоровяк поправил пенсне и саркастически улыбнулся.
– Именно органично! – с твердостью повторил Тюфин. – Если я, скажем, пишу сейчас роман… Так ведь это ж вместе с тем организм! Ты посмотри! Каждая страница – душа! Ты можешь вообразить, что у меня черт-те где, в Киевской губернии живет мужик, знакомый мужик. Можешь?
– Воображаю, – бесплодно иронизируя, сказал здоровяк.
– Так вот этот самый мужик для меня – эпоха. Милый мой, да ведь в этом же и есть вся мощь литературы, – добавил он, внезапно смягчаясь, – да ты же врешь, ты меня понимаешь! Раньше я просто так себе писал, ей-богу, многое из одной гордости не печатал. А теперь нет – шалишь! Теперь я каждую строчку! Все! Все обязан печатать! Потому что я сам себе не принадлежу. Кому же я принадлежу? Эпохе!
– Хороший, хороший! – одобрительно сказал усач, напрасно стараясь подтащить Тюфина к себе поближе. – Хорошая душа! Настоящая, русская! Всем хорош! Одно плохо – историю не знает. Голову на отсечение – не знает! А я вот знаю. Я историю знаю, хорошо знаю. Ух! Хорошо!
Кекчеев, окончив пересмотр корректур, положил их на стол здоровяку и направился к двери. Дольше оставаться было неудобно – он покидал эту комнату с ужасным сожалением. На пороге он столкнулся с новым писателем, высоким, с выкаченной грудью и лопатообразной бородой.
Уже за дверью он слышал, как усач встретил вошедшего:
– Те-те-те, государю русской литературы наше вам рупь с гандибобером почтение! Что ж ты, фрыга заморская, не пришел ко мне вчера водку пить? Что ж ты, хомяк ты этакий, старых приятелей забываешь? Что ж ты…
3Не было никаких оснований предполагать, что наперерез и наперекор Неве и туману лежит земля. С тех пор как Ногин, держась за гриву льва, спустился на лед, он почувствовал себя вырванным из города, из времени и пространства. В этот час между мостами Равенства и Лейтенанта Шмидта господствовал мир идей. Идеи дымились паром на устах Драгоманова. Он шел по узкой дорожке, усеянной жесткими крупинками снега, и говорил об ассимиляции гласных. Просохшая полоса льда исчезала за его спиной, впереди, подобная негативу, появлялась другая. Налево и направо, быть может – до самого порта, непрерывный, скучный, непохожий на вату, шел санкт-петербургский, петроградский, ленинградский туман.