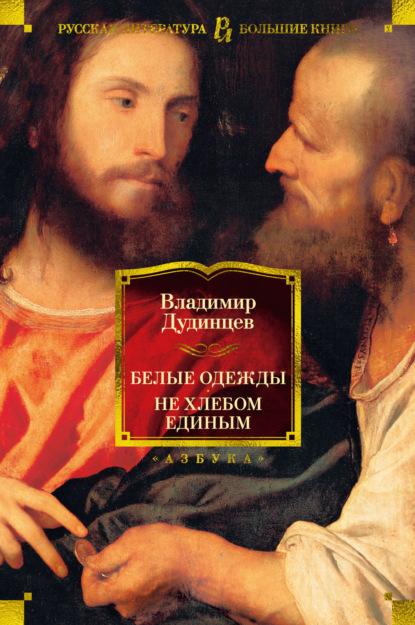Полная версия
Перед зеркалом. Двойной портрет. Наука расставаний

Вениамин Александрович Каверин
Перед зеркалом
Двойной портрет
Наука расставания
© В. А. Каверин (наследники), 2022
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство АЗБУКА®
Скандалист, или Вечера на Васильевском острове
Я не рожден, чтоб три разаСмотреть по-разному в глаза.Б. ПастернакПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Лица, пытающиеся открыть затаенные личные мотивы в этом повествовании, подвергнутся судебному преследованию; лица, пытающиеся извлечь отсюда какое-либо нравоучение, будут высланы; лица, пытающиеся усмотреть здесь сокровенный злокозненный умысел, будут расстреляны по приказанию автора начальником его артиллерии…
М. Твен. Приключения Гекльберри ФиннаЗдесь читал адъюнкт-профессор Николай Васильевич Гоголь-Яновский
1Жена лежала рядом с ним, большая и грозная, устроенная именно так, чтобы лежать рядом с ним.
Это была та самая женщина, которой он улыбался. Да, именно улыбался, обязан был улыбаться. Он с ужасом потрогал ее спину ладонью. Это была сама судьба, слепая и увядшая, с которой сползло одеяло.
Он с тоской отвернулся к стене и вспомнил старый свой способ поскорее заснуть – нужно было поднять глаза под закрытыми веками, стараясь, чтобы все спуталось в голове, подражая самой последней перед сном минуте. Но и на этот раз заснуть не удалось. Далекий трамвай пропел на повороте, оконные переплеты, отраженные на потолке, напоминали другую, третью, четвертую ночь, любую из тех, которыми располагал профессор Ложкин. Они ничем не отличались от этой, разве только время было другое. Но та же луна, пенье трамвая, усталость.
Не стоило перебирать дня, оставленного в кабинетах Публичной библиотеки, в аудиториях университета. Да и полно, был ли это сегодняшний день? Быть может, вчера или год, два года, десять лет тому назад он спускался по сухим паркетным лестницам в рукописное отделение, горбатый на одно плечо старик приветствовал его: «Soyez le bienvenu, monsieur!»[1] – задыхающиеся рукописи перелистывались перед его глазами. Десять, нет, пятнадцать лет назад он разыскивал водяные знаки на хрупких листах табачного цвета, истлевающих от бесшумного хода столетий, разбирал и сличал тексты, из-за которых когда-то убивали, сжигали на кострах, гноили в земляных ямах, – всю свою жизнь он занимался литературными памятниками ересей и сект XV и XVI столетий.
И самым тягостным показалось ему, что приветливый горбатый старик говорил свою фразу, несмотря ни на что, – он сказал ее в июле четырнадцатого года, в феврале и октябре семнадцатого.
Но, впрочем, что ж тут примечательного? Он просто вежлив, этот старик, его отец и дед были хранителями рукописного отделения, что ему, в конце концов, до русской революции или Версальского мира? Он припомнился только потому, что сегодняшний день очень похож на вчерашний, на третьегодняшний, на любой из тех, которыми располагает профессор Ложкин.
И только один-единственный день не похож на все остальные, – день, когда он впервые спустился по легким, как в театре, лестницам и сел за стол, протирая пенсне, упираясь молодыми, но уже близорукими глазами в клетчатые очертания стен, построенных из дерева и переплетов…
Он вытащил из-под одеяла руку, провел ею по лицу, пощупал следы от пенсне на переносице.
– Профессор, – сказал он самому себе шутливо, – не ищите, друг мой, особенного значения в том, что…
В чем? Он поиграл складками одеяла и поднес руку к глазам. Рука была комнатная, заблудившаяся, потерявшая прямое назначение.
А все, что он собирал так долго, год за годом, наука, которая ворохом просохшей бумаги шуршала вокруг него ежедневно, ежеминутно?..
«Ну и что же мне делать с ней?» – спросил он едва ли не вслух и тотчас же уклонился от вопроса, оскорбившись обидным сравнением, которое он сам же и придумал несколько дней тому назад.
По совести говоря, он и сам не знал, что ему делать со своей наукой, он сторожил ее, как солдат, который тридцать лет сторожил дорогу по приказу императора Павла… Нет, хуже того, он сторожил ее, как собака сено…
Жужжа на повороте, пролетел трамвай, оконные переплеты стали перед ним, как лист перед травой, – все это бывало и раньше, ничего не случилось, продолжение следует.
Не было ни малейшей причины волноваться. Наука – вот она, он ее знает, он знает, что с ней делать, он, наконец, слишком стар, чтобы менять профессию. Пустое, ничего нет, все дело, быть может, в том, что сегодня вечером на панихиде он слишком долго смотрел в костяное лицо покойника, – отпевали старого приятеля, профессора Ершова, умершего в сумасшедшем доме.
Запах ладана припомнился ему, и глупая речь, которую сказал священник, – он с отвращением вдохнул открытым ртом и подтянулся выше на подушках, схватившись за спинку кровати. Надо полагать, что Ершов сошел с ума от одиночества. Он, кажется, не женился для того, чтобы стать великим ученым. Уж лучше бы он женился, пожалуй.
«Семейный человек живет как собака, но умирает как человек – холостой живет как человек, но умирает как собака», – подумалось или вспомнилось Ложкину. Вот он, Ложкин, – семейный человек, у него есть надежда умереть прилично, с достоинством, может быть, даже в своей квартире, а не в сумасшедшем доме. Об этом позаботится его жена, его судьба, которая живет с ним в одном доме, спит с ним в одной постели, ест с ним за одним столом и требует, чтобы он улыбался.
– А что бы случилось, однако, если бы я перестал улыбаться? – спросил он самого себя и тут же передвинул что-то в голове, начал думать о другом, стараясь уверить себя, что это другое и есть то самое, о чем он думает с вечера до… Он посмотрел на часы. До половины четвертого ночи. Что-то очень важное, какая-то забота, живущая между научным спором и квартирной платой… И кстати, куда же все-таки он засунул эту проклятую квитанцию за прошлый месяц?
Вот только теперь к нему пришло последнее перед сном, давно изученное мгновенье, он, как всегда, заметил его и почувствовал с радостью, что наконец засыпает. Тогда, полуочнувшись, полуоткрыв глаза, не сознавая уже, как давно прекратилась томительная работа сознания, он перевернулся на живот, вытянул ноги. Отдаленный трамвай все еще гудел, как шмель, гудел на повороте, он так и не догадался, что это был не трамвай (скрипели петли дворовых ворот), кто-то негромко и шутливо крикнул внизу, на улице, и все окончилось, он спал.
Он спит, а на другом конце города, в самом глухом углу Васильевского острова, на черт знает которой линии, в проточенном, протекшем доме, из которого давным-давно, опасаясь обвала, выехали жильцы, за кухонным столом, залитым чернилами, сидит маленький старичок с рыжеватой курчавой бороденкой, подпирая лицо руками, глядясь в почерневшее окно. Ничего не видать в окне, кроме отраженных рук, подпирающих мутное пятно лица, лба, ускользающей в стекле бороденки. Но он смотрит настойчиво, прилежно, он как будто видит, как за три квартала отсюда, на четырех перекрестках, ходит ходуном сам Васильевский остров, в клетчатой кепке, в широких морских штанах, с папироской, прилипшей к подсохшим губам.
Наконец он встает, снимает узкое драповое пальто, которое не снимал с тех пор, как вернулся со службы, и, бормоча что-то, жужжа и хихикая, начинает укладывать вещи. В заплечный мешок он кладет несколько рубашек, крахмальную манишку и ящик от сигар, в котором лежат воротнички, карандаши и старые письма. Он снимает со стены полустертую фотографическую карточку – задорное женское лицо смотрит на него внимательно и лукаво – и бережно заворачивает в газетную бумагу.
Свет меняется в окне, когда он наконец ложится, не раздеваясь, на голую кровать, под драповое пальто и ватное одеяло. Он больше не жужжит, не бормочет. Свет меняется в окне, близится утро, он засыпает.
Спит в скором московском поезде Некрылов, писатель, скандалист, филолог. Он спит, ловя уснувшей рукой сползающее с плеч пальто, подбросив под голову свои книги, которые он везет друзьям и которые никогда не получат ученой степени в университете. И город катится навстречу ему во сне. Сон, как солдат на часах, стоит над городом, от охтинских рыбаков до острова Голодая.
Не спят только милиционеры на постах, сторожа, охраняющие мосты, да еще те, которые спят днем, чтобы работать ночью.
И вместе с милиционерами, ночными рабочими и сторожами не спит студент Института восточных языков Ногин. В письме, которое он изорвал в клочки, не было ни слова о том, что он третью неделю грузит железо в порту, обедает через день и загнан в утлый чулан, притворившийся человеческим жилищем. Он писал: «Люди, которых никто не встречает ежедневно, ежеминутно в трамваях, в театрах, в ресторанах, которые живут одиночками, которые все же немыслимы вне нашего времени и нашего пространства, занимают меня. Они одиноки, враждебны друг другу, каждый из них живет за самого себя и ничем не обязан соседу, любовнице, брату. Они вскормлены войной и революцией, но живут за свой счет и равнодушны к родителям – потому что и в этом согласны с духом эпохи, воспитавшей неуважение к отцам. Они не стараются отгородиться от мысли, что мир разорван, борьба неустранима, но они не носят эту мысль с собой в боковом кармане, в записной книжке, вместе с распиской за квартирную плату и квитанцией от заказного письма. Они рождены одной эпохой, вскормлены другой и пытаются жить в третьей…»
2Прошло и навряд ли когда-нибудь возвратится загадочное время, когда на историческом театре, под гром и молнии гражданской войны, появилась с пером в руках комнатная Россия. Она сидела в валенках за канцелярским столом, вброшенным в княжеские и купеческие особняки, и листала журнал входящих и исходящих бумаг, превращенный в новое евангелие новых канцеляристов. Простая, как воздух, формула была начертана на стенах монастырей. Должны были работать все – от регента до классной дамы, и интеллигенция незаметно для себя, на журнале входящих и исходящих бумаг, поклялась в верности четвертому сословию.
Тогда с легкостью, почти непредставимой, сами собой начали возникать учреждения. Они возникали преимущественно в тех местах, где сохранились голландские печи. Заваленный работой, важничающий печник пробивал дыру в дымоходе, оглушительно стучал молотком по трубам, мазал глиной буржуйки, курил, скандалил, отбивал от потолка известку. Подобно богу, он работал шесть дней, на седьмой отдыхал, а на восьмой начиналась жизнь. Курьеры разносили морковный чай, лысый кассир дышал на озябшие руки, огромные черные слезы падали из печных труб на притихшую интеллигенцию. Комнатные люди, вброшенные в особняки с голландским отоплением, были заняты и приучались к мысли, что чечевичная похлебка, которую они ели, вернувшись домой со службы, – есть та самая, за которую они продали свое призрачное первенство в русской революции.
Где, в каком музее лежат теперь все эти входящие и исходящие, удостоверения, справки, мандаты, карточки, акты, анкеты, проекты – бумаги, написанные рукой, которую нужно было занять во что бы то ни стало? Курьеры мажут их салом потихоньку, крысы жрут их с вечера до утра и с утра до вечера.
Редко кто остался на том месте, которое занял в памятные дни боевого крещения русской интеллигенции! Разве какой-нибудь обиженный, обсиженный мухами канцелярист с рыжей бороденкой (которая единственно нарушает деловую, солидную внешность преобразованного учреждения) все еще сидит на обтертом стуле, согнув спину, не выпуская из рук изгрызенной, запачканной чернилами ручки.
3Рыжая бороденка эта торчала в одном из крупных ленинградских издательств. Она принадлежала хранителю рукописей – загадочному и отрешенному от реального мира. Не только ручка, но и пальцы его были запачканы чернилами. Он жужжал.
Когда он, подтанцовывая, вбегал в вестибюль, швейцар, принимая от него пальто, оглядывался беспокойно, стараясь угадать, в котором окне бьется неугомонная муха. Жужжание пропадало на мгновенье, когда хранитель рукописей проходил мимо комнаты машинисток, и снова возникало в свободном, продолженном перилами, пространстве общей канцелярии. Это было уже не жужжание, это был ночной шум, шумела вода в водопроводных трубах, рассыхался пол, коробились обои. Хранитель рукописей водворялся у неуклюжей конторки, между шкафами, в стороне от прочих служащих редакционного отдела – только тогда шум спутывался с бормотаньем, в нем появлялись концы и начала слов, предлоги и междометия.
Здесь, между шкафами, была жилая площадь этого шума.
Здесь он мог свободно выражать радость и уныние, неудовольствие и раздражение, недоумение или тревогу хранителя рукописей.
Но, впрочем, испытывал ли он радость, неудовольствие, тревогу?
За девять лет, в течение которых он ни разу не пропустил случая аккуратнейшим образом отсидеть положенное служебное время, он едва ли перемолвился приятельским словом с кем-нибудь из своих сослуживцев. За его спиной в продолжение этого времени выросло огромное учреждение, бесконечная мешанина людей, вещей, бумаг, папок, книг, пишущих машинок – чертов котел варился за его спиной с девяти до четырех ежедневно. Он ничего не замечал и ничему не удивлялся.
Никаких рукописей он, в сущности говоря, никогда не хранил. Он только числился хранителем рукописей. Но ни одна из них не миновала его – он подсчитывал печатные знаки.
Печатные знаки, как раздвижные солдатики, постоянно двигались перед его глазами – строка перестраивалась в страницу. Они не выходили из головы – он видел их на дне суповой тарелки, в зеркале, во сне. Они казались расплющенной дробью, которую он напрасно старался сдунуть или стряхнуть. Болезнь печатников – она была тяжела для его лет, он никак не мог к ней привыкнуть.
Должность подсчитывателя печатных знаков возникла из недоверия. Неясно было, почему именно ему, а не кому-либо другому было поручено это дело. Должно быть, бородка либо жужжание показались заведующему издательством несомненными признаками недоверчивости. Как бы то ни было, от имени издательства он имел право не доверять писателям, переводчикам, ученым. Он сидел с карандашом в руках над историей, политикой, экономикой, математикой, литературой – и не доверял. Издательство выигрывало на этом как раз ту сумму, которая шла на его жалованье.
Казалось, он принадлежал к числу никому не известных сомнительных людей, которые время от времени появлялись в издательстве неприметно и столь же неприметно исчезали. Он не исчез. Напротив того, он пересидел множество редакторов, не говоря уже о делопроизводителях и технических секретарях. Согнувшись циркулем, он торчал над конторкой и, жужжа, подсчитывал знаки. Жужжание выражало независимость.
Его не называли по фамилии. Кто-то из местных острословов окрестил его Халдеем Халдеевичем, и хотя были минуты, когда он почему-то не откликался на это имя, – в обычное время он как будто ничего обидного для себя в нем не находил…
Впрочем, были в издательстве люди, которым он никогда не разрешал называть себя Халдеем Халдеевичем.
Это были писатели. Писателей он не любил. Он относился к ним с недоверием не только по долгу службы, но и по собственному разумению. Они казались ему людьми беспокойными, шумливыми, ненадежными. По два, по три часа они шлялись из одного отдела в другой и говорили, говорили без конца. Ему случалось прислушиваться к этим бесконечным разговорам. Все были на один лад. Каждый рассказывал другому о себе и ждал, что собеседник его похвалит. Они хвалили друг друга. Они боялись поссориться. Они хвастали, как актеры, и притом врали. Халдей Халдеевич понимал, почему они подолгу сидят в издательстве без всякого дела. Это заменяло им службу. Они были одним из отделов – но отделом беспокойным, распущенным, ходячим…
4Не оборачиваясь, он подергал плечом, сморщился и, упершись кулаком в подбородок, задумчиво уставился в окно. В сотый раз он увидел полуголую богиню со швейной машиной у ног, клочок неба, похожий на воздушное печенье, и свежепокрашенную крышу соседнего дома. Ни то, ни другое, ни третье не доставило ему ни малейшего удовольствия. Он пожал плечами и, поерзав на стуле, скосил глаза, стараясь высмотреть кого-то за фанерной перегородкой. Потом он подмигнул Вильфриду Вильфридовичу Тоотсману, бывшему мировому судье, почтенному семьянину, занимавшемуся рассылкой корректур. Мировой судья, почти испуганный такой общительностью со стороны своего молчаливого соседа, подошел поближе.
– Я вас, любезный друг, предупредить хотел, хотел предупредить, – шепотом сказал Халдей Халдеевич и большим, язвительно изогнутым пальцем левой руки ткнул в сторону фанерной перегородки, – на всякий случай имейте в виду… Плут! Плут и пролаза!
Вильфрид Вильфридович опасливо посмотрел на язвительно изогнутый палец и, ничего не сказав, вернулся к своим корректурам.
Человек, сидевший за фанерной перегородкой, был еще очень молод. У него были пухлые губы. Лицо его, расплывчатое, но выразительное, было спутано и затушевано очками – тяжелыми, шестигранными, роговыми. Неделю назад он ходил еще без этих очков, назывался Кирюшкой Кекчеевым и получал жалованье по девятому разряду. Он был просто мальчишкой, пусть даже и окончившим какой-то институт, – Халдей Халдеевич плевать хотел на этот институт.
Неделю назад он смиренно выслушивал выговоры и наперегонки с лифтом летал по всем четырем этажам, когда курьер был отослан в другое учреждение. А теперь, извольте видеть, теперь…
Халдей Халдеевич с трудом представлял себе, как произошло неожиданное возвышение его помощника. Он боялся признаться себе в том, что и он сам, каким-то несчастным случаем, был в этом возвышении замешан.
5Едва ли не с первого дня своего пребывания на службе Халдей Халдеевич приметил одного из наиболее частых посетителей издательства – человека огромного, медвежеватого, обходительного.
Человек этот подъезжал к издательству в дрожках и, мало, в сущности, разговаривая, а больше оттирая плечом тех, что были помоложе, пролезал прямо к кассе. Он как будто даже и не писал ничего, а только редактировал – и то в отдаленном прошлом – какой-то журнал полунаучного характера. И тем не менее все заискивали перед ним. Даже те, которые называли его прохвостом.
Впрочем, он не выпускал изо рта трубки и имел вид человека почтенного и незаурядного.
Тоотсман первый увидел его в жилой площади шума, производимого Халдеем Халдеевичем. Шум умолк. Халдей Халдеевич спутался в счете и с беспокойством поднял голову. Посетитель приближался к нему, неся впереди себя большой, круглый живот, добродушно попыхивая трубкой. Воздуху в комнате стало как-то гораздо меньше.
Живот сказал что-то, и Халдей Халдеевич понял, что видит перед собой тоже Кекчеева, родного отца или по меньшей мере родного дядю Кирюшки. Тут же выяснилось, что дело именно Кирюшки-то и касалось…
Испуганный, зажатый между шкафами Халдей Халдеевич получил в руки какую-то бумагу, которую ему было предложено немедленно же подписать. Кекчеев-старший ласково потянул его за рукав… Халдей Халдеевич беспомощно посмотрел на него и подписал. Потом он все-таки попробовал прочесть бумагу. В бумаге были подробно перечислены достоинства Кекчеева-младшего. Он был нарисован пленительными чертами. Халдей Халдеевич восторженно отзывался о нем в этой бумаге. Отдел бы ожил, если бы… Но тут Кекчеев-старший добродушно похлопал его по плечу, вынул бумагу из его рук и заговорил о чем-то другом. Потом подписал Вильфрид Вильфридович. Потом большой, круглый живот нырнул в дверь.
Халдей Халдеевич проводил его глазами и пошел к своей конторке, робко сморщиваясь, испуганно поглядывая вокруг.
И вот теперь, только теперь, сегодня утром он понял загадочный смысл этого посещения! Пролаза завел очки, засел за перегородку, вывесил над столом чертеж какого-то проекта и заговорил с Халдеем Халдеевичем слишком вежливым, начальническим тоном. Он был назначен техническим секретарем. Халдей Халдеевич со своей бороденкой, со своим шумом, со своими служебными обязанностями был теперь всецело в его распоряжении.
6Во втором часу дня маленькая машинистка, которая была настоящей розовой стрекозой с белыми и голубыми бантиками, забежала к техническому секретарю. Халдей Халдеевич прислонил перо к чернильнице и прислушался.
Стрекоза забежала по делу: товарищ Глобачев, заведующий учреждением, просил технического секретаря заехать к нему на дом по срочному делу. Пишущие машинки, как горящий вереск, стрелявшие за спиной Халдея Халдеевича, помешали ему расслышать все остальное. Технический секретарь вскочил, едва не опрокинув стул, и переспросил о чем-то молодым, но уже солидным баском, которому он напрасно старался придать внушительность и хладнокровие. Потом он появился на пороге и, тронув пальцами очки, неторопливо приблизился к Халдею Халдеевичу.
– Я сейчас еду к Глобачеву, – сказал он, – будьте добры, если это не затруднит вас, приготовьте к моему возвращению черновик отчета.
Отвернувшись в сторону, поспешно схватив в руки запачканную чернильную ручку, Халдей Халдеевич хмуро кивнул головой. Он насупился, зловещая тень прошла по заросшему лбу, мохнатым бровям, курчавой бороденке. У технического секретаря были короткие руки. Он чистил себе ногти перочинным ножом. Из-под шестигранных очков смотрели снисходительные глаза, разбойничьи, в сущности, глаза торгаша и карьериста. Жирный ребенок еще угадывался в нем.
7Опасная мысль о порочном круге, придавшая солидному и благоустроенному существованию профессора Ложкина характер какой-то непрочности, бивачности, была прозвана им (разумеется, только для самого себя) «бабьим летом» или «второй молодостью».
Он внезапно открыл, что каждый день проделывает один и тот же маневр, состоящий из слов и движений, порядок которых был установлен раз и навсегда с точностью почти астрономической. Он повторял себя день за днем, час за часом.
Машинальность, с которой он читал лекции, сличал рукописи, обедал, ужинал, жил с женой, внезапно показалась ему оскорбительной. Иногда (впрочем, даже себе самому не сознаваясь в этом) он испытывал смутное желание послать все к чертовой матери, уехать в провинцию, заняться кроликами, курами, рыбной ловлей.
Именно эта опасная мысль подчас неожиданно сбивала плавный ход какой-нибудь тысячу раз читанной лекции, предмет которой был известен ему, как письменный стол или лицо жены. Он задумывался, фраза, потерявшая значение, скользила с гуттаперчевого языка. Студенты перемигивались, перебрасывались записками, из указательных пальцев складывали крест. В эти мгновения вместо заблудившейся, потерянной мысли он вспоминал случай с певцом Карузо или Баттистини, который окончил свою карьеру при погребальных свечах, зажженных посетителями миланской оперы. От креста, сложенного из указательных пальцев, до погребальной свечи был, в сущности говоря, только один шаг…
Та же мысль, на этот раз притворившаяся анекдотом, однажды пришла ему в голову во время серьезного разговора с одним из знакомых историков, который обратился к нему за какой-то справкой. Они говорили в дверях читального зала, читатели шпалерами расположились за продолговатыми столами, зелено-голубые абажуры, командующие тишиной, выносили читальный зал за пределы реального существования. Ему, профессору литературы, ветерану этой тишины, генералу от зелено-голубого абажура, в кругу которого лежали раскрытые книги, следовало бы умилиться, да и то молча – неловко было посторонними замечаниями прерывать ученый разговор…
Он умилился. Напротив того, ему вдруг представилось, что вся эта чинная армия читателей – вот и этот кривоногий сумасшедший старик, увешанный множеством орденов, значков и медалей, и худосочный юноша в академическом пенсне, и прочие библиотечные завсегдатаи, – сами того не замечая, сидят и читают голышом, в чем мать родила. Идея эта была, очевидно, просто глупа, и почтенный историк по справедливости не мог понять, над чем хохотал до потери пенсне профессор Ложкин.
Да и вообще профессор Ложкин в тот день произвел на историка неприятное и тягостное впечатление. Он причудился ему ренегатом.
К этому следует присоединить уж совершенный фарс, происшедший неделю спустя между ним и Мальвиной Эдуардовной.
Мальвина Эдуардовна, его супруга, жила главным образом тем, что скрывала от всех свою профессию – до замужества она была повивальной бабкой. Именно в этом тщательном сокрытии профессии заключался весь смысл ее жизни. Она выдумала себе другую родину, других родственников. Она дрожала при мысли, что может случайно – на улице, в театре – встретиться с какой-нибудь из своих пациенток. Она целыми ночами думала над чьим-то неосторожным словом, которое – казалось ей – было сказано с умыслом, с тайным умыслом намекнуть на повивальное искусство.
В минуты откровенности профессор любил говорить, что она была молода, – из сочувствия с ним соглашались.