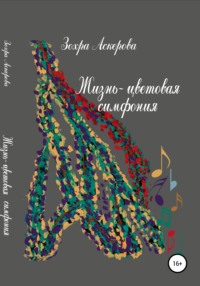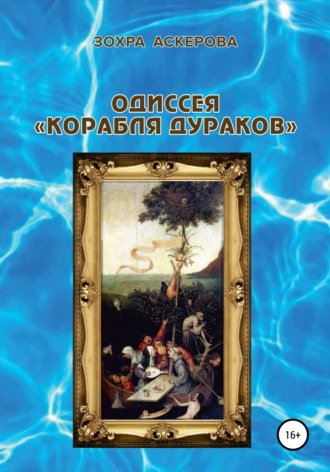 полная версия
полная версияОдиссея «корабля дураков»
Человек зеркало той истины, которую нашел в своей жизни и в которую верит. Мы похожи на героев наших дум. На самом деле существуют небольшие различия между созданием путем откровения, написанием и исполнением классической музыки. И тем более присвоить и с совершенно другой душой, другим дыханием «исполнять» мелодию совершенно другого народа. Так же как вянет цветок после того как его сорвали, так и принадлежащие другой культуре, оторванные от своего народа произведения не принесут тем, кто их присвоил ни успеха, ни величия.
В одном из своих интервью Кямран Иманов сообщил: «Роль интеллектуальной собственности заключается в том, что кроме своей культурной значимости она играет большую роль в формировании информационного общества. Поэтому в «Концепции развития до 2020-го года» эти пункты нашли свое отражение. Одна из задач, стоящих перед нами это создание системы цифрового мониторинга и лицензирования для защиты прав».
Еще раз обратимся к книге «Пришел, увидел…присвоил»: «Геворг Аслан известный армянский историк: «Государственности у армян не было. Они не связаны чувством родины и не связаны политическими узами. Армянский патриотизм связан только с местом проживания».
Хачатур Абовян, основоположник новой армянской литературы: «В разговорной речи наш народ употребляет не только отдельные слова по-азербайджански, но и предложения целиком».
Г. Агаян: «Ашуги исполняли не на армянском, а на тюркском. Среди наших ашугов еще не было представления об исполнении на армянском языке…Наши ашуги не имеют дастанов со стихами на армянском, все – только на турецком».
Эти тенденции открыто, признаваемые армянами, явно проявляются в творчестве Саят Нова. Если из своих стихотворений 6 он написал на русском, 35 на грузинском, 63 на армянском, а 128 на азербайджанском, то кем ему быть как не ашугом?
Всемирно известный писатель Курбан Саид в книге «Али и Нино» дает интересные факты о настоящих ашугах: «…В месяце Рамадан есть таинственная ночь. Ее называют «Ночь аль-Кадр». В эту ночь природа замирает на 1 час. Реки не текут, джины и шайтаны не стерегут богатства. Слышно, как на лугах и полях трава и деревья перешептываются…те, кто рождаются в эту ночь будут либо поэтами, либо учеными. В «Ночь аль-Кадр» ашуг должен позвать прародителя всех поэтов пророка Измаила. В нужный час пророк появляется и поит ашуга из своей чаши водой, говоря при этом: «С этого дня ты настоящий ашуг и все происходящее на земле ты будешь видеть моими глазами». Думаю, лишние слова здесь не нужны.
Выучившие наш язык соседи не сидели без дела в конце XIX века. Без труда переводили наши произведения на свой язык. Как отмечалось выше границы между истиной и ложью нарушены.
В своей статье, напечатанной в 1923 году (12-14 номерах) журнале «Просвещение и культура», У. Гаджибеков пишет: «… я нисколько не преувеличу, сказав, что среди кавказских народов самые музыкально одаренные азербайджанские турки. Большинство из них – это отнюдь не известные исполнители и музыканты, а певцы известные только в своей среде и возможно, среди народов Кавказа. Именно голоса таристов, садыгов, певцов, абдулбагов, ашугов наджафкули стали известны на всем Кавказе и приобрели значение интернационалов. Если бы изначально не существовали частично религиозные, политические и традиционные аспекты, то азербайджанские турки могли бы взрастить музыкантов, которые показали бы свое мастерство и на западе и были способны конкурировать с западными музыкантами».
Он абсолютно правильно отмечает, что если бы не политические и религиозные проблемы, Азербайджан был бы более известен на мировом уровне. Если бы это было так, то как бы армянин присвоил бы себе произведение, известное на весь мир?! Обратимся к истории. Еще в XVI веке армяне переселились из Месопотамии к берегам озера Ван, а оттуда на Кавказ и осели группами на землях огузских турок. Цель этого переселения легко разгадать, здесь они строят церковь и тем самым пытаются доказать, что они аборигены Кавказа. До сегодняшнего дня эта их грязная политика продолжается, шаг за шагом они расселяют армян на землях оккупированного ими Карабаха. Пословица гласит: «И верблюд посещает Мекку, но хаджой не становится».
На днях я прочитала книгу Ш. Габыссанлы «Мугам и пророк Авраам». Как человек немного разбирающийся в религиозных книгах скажу, что я почувствовала глубокую духовную силу этой книги. В книге мы ближе знакомимся с темными, забытыми, тайными слоями нашей древней цивилизации, освещаемыми светом мысли автора. В представлении Шакира Габыссанлы самые древние национально духовные богатства, историческое происхождение нашей музыки остаются в памяти читателя. В предисловии редактор книги Малик Реджеп дает очень интересные разъяснения о песне «Сары Гялин»: «… У нас десятки тысяч песен. Из этих десяти тысяч армяне серьезными попытками пытаются присвоить «Сары Гялин». Почему? … «Сары Гялин» это древняя песня зороастрийцев, которую они пели солнцу. «Не отдадут тебя за меня, Сары Гялин». Если рассуждать примитивно, смысл абстрагируется. «Сары Гялин», принадлежащая всем запрещается. Потому что «Сары Гялин» – это солнце! Солнце это – Бог зороастрийцев, которому они поклоняются. Зороастр – это не имя пророка, так называется целая цивилизация. Первыми кто перешел на оседлую жизнь и занялся земледелием были зороастрийцы…». Как видите, именно потому, что древность этой песни связана с духовными корнями одной цивилизации, она притягивает армян. Если священные критерии чужды нашим враждебным соседям, то, как от них можно ожидать уважения и милосердия по отношению к нашим духовным ценностям?! Как хорошо, что своим неповторимым исполнением «Сары Гялин» Акиф Исламзаде подарил ей новую жизнь.
В статье «Уделим внимание оркестру национальных музыкальных инструментов» К.Керимов рассказывает о своих опасениях, что о творческом пути оркестра не была написана монография: «…создание при информационном управлении радио первого нотного оркестра азербайджанских народных музыкальных инструментов был успешным шагом в этом направлении. Организовал этот оркестр основатель профессиональной азербайджанской музыки Узеир Гаджибеков. Для этого оркестра Гаджибеков создал первые оригинальные произведения – фантазии на основе мугама «Шур» и «Джахаргях». … Композитор Саид Рустамов также приложил не мало усилий для развития оркестра… Изучая мировую классическую музыку коллектив оркестра повышал свое исполнительское мастерство… Ряд молодых, преуспевающих композиторов, такие как Ф. Амиров. Г. Гусейнли, А. Герай и др. в свое время работали в этом оркестре и некоторые из них написали свои первые произведения именно для этого оркестра…Однако помехи и препятствия, не дающие оркестру расти и развиваться, в последнее время особенно бросаются в глаза. Известно, что в оркестре нет аналогов низкого звучания основных музыкальных инструментов тара, кяманчи и балабана. Нота «до» малой октавы самый последний низкий звук. Попытка усилить фортепианным исполнением недостающие в нижнем регистре басовые звуки не дает желаемые результаты…На проведенной недавно коллегии Министерства Культуры поднимался вопрос о работе оркестра народных музыкальных инструментов и часто говорилось о необходимости реконструкции народных музыкальных инструментов. Однако для решения этого вопроса по сей день не приняты конструктивные меры…Приближается 25-летие со дня создания оркестра народных музыкальных инструментов. Но еще не написана серьезная монография либо статья, обобщающая весь творческий путь, который оркестр прошел за эти годы».
А теперь обратим время вспять и вернемся в Шушу по праву считающуюся нашей музыкальной консерваторией. Вернемся, но как? Окунемся в воспоминания…В книге К.Керимов так описывает последний концерт Бюльбюля, который он дал в Карабахе: «…в начале августа 1961 г. Бюльбюль позвонил мне и сказал, что хочет отправиться на гастроли в Карабах. Он предложил мне поехать с ним, и чтобы я выступал с вступительной речью на концертах. Я согласился. Бюльбюль сказал, что согласовал этот вопрос с Теймуром Алиевым…С нами отправился коллектив азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Узеира Гаджибекова. Дирижером оркестра был Ахад Исрафильзаде… Ему аккомпанировали: на таре Эхсан Дадашев, на бубне Азизага Наджафзаде, на фортепиано его сын Полад… На гастроли Полад взял с собой недавно вышедший маленький магнитофон «Юность» и записывал на него все концерты
Бюльбюля… Кажется он записал и несколько моих выступлений…
Вечером зал Ханкендинского театра был битком набит зрителями. Большинство из них были армянами… Выйдя на сцену, Бюльбюль поприветствовал зрителей на азербайджанском, и продолжил речь на русском. Он сказал, что когда 150 лет назад армяне переселились из Ирана в Карабах, мы выделили им одно из самых прекрасных мест нашей земли – Ханкенди. Позже армяне сменили название Ханкенди на Степанакерт… здесь, за счет Азербайджанской Республики они построили дома, школы, многие культурные центры и даже здание Армянского Драматического Театра…в красивом фойе театра на стенах висели портреты родившихся в Карабахе писателей и музыкантов…А где же портреты взращенных в Карабахе Вагифа, Хуршудбану Натаван, Узеира Гаджибекова, Абдуррахима Хаквердиева, Джаббара Карягдыоглы? Мы вечно говорим о дружбе, интернациональности, но когда утром мы приехали в город, то увидели надписи на армянском и русских языках. Вы не должны забывать, что это Азербайджанский город…».
Армяне хорошо знают эту истину, однако всегда готовы доказать, что над небом Ханкенди и солнце встает по-армянски…На следующее утро К.Керимов и Бюльбюль отправились в Шушу. Ехали на «Волге», которой управлял его сын Полад. Бюльбюль захотел навестить отчий дом в квартале «Гурдчулар», но увидев, что дом снесен, а на его месте засеяны картофельные поля, он застыл в смятении. «Бюльбюль не поверил глазам. Великий певец застыл в смятении и искал глазами дом, в котором родился. От родных стен на память не осталось и камня. Бюльбюль качая головой, думал о своем. Увидев, изменение настроения отца Полад сказал: «Видимо никто не знал, что ты родился в этом доме. Ты говорил, что дом твоего деда тоже находится в этом квартале. Может, отправимся туда и снимем тебя там?» Мы отправились в дом его деда, который был неподалеку. Теперь там находился детский сад. Во дворе этого дома Нариман снял последние кадры жизни Бюльбюля…
Мы отправились в гости в красивый двухэтажный дом композитора Сулеймана Алескерова в Шуше. Каждое лето Сулейман отдыхал здесь с семьей. Увидев Бюльбюля в своем доме, он растерялся от радости. Он хотел зарезать ягненка у ног певца. Бюльбюль не согласился. Он сказал, что только что поели, выпьем чаю и отдохнем до концерта.
Вечером в большом зале школы интерната Шуши он дал свой последний концерт…Бюльбюль в первый раз надел на себя свои ордена – орден «Ленина», «Флаг Труда», Орден «Почета», и еще несколько медалей».
Честно говоря, попытка понять другого, притязание писать вместо него все равно, что стоять у моря и простодушно говорить о богатствах, что спрятаны в ее глубине. Хватит ли нам дыхания в легких, чтобы добраться до этих глубин?! Однако справедливости ради нужно дать свободу мыслям, что тревожат нас. После прочтения книги я поискала в интернете этот документальный фильм и после повторных просмотров осознала, с какими тревогами и горькими думами Бюльбюль вошел во двор дедовского дома. Действительно печаль и грусть ясно читались в его глазах. Возможно, во время этого потрясения он почувствовал будущее Шуши. Много лет спустя, когда армяне оккупировали Шушу, возвышающийся там бюст Бюльбюля также пострадал. Его тоже вывезли из Шуши, но его голос продолжает жить в истории азербайджанской музыки, в боевом кличе Кероглы.
В создании в 60-ых гг. документального фильма «Народный исполнитель», посвященного Бюльбюлю, велик труд автора сценария К.Керимова. Один из самых проникновенных моментов в книге – это обращение с болью в сердце к зрителям Бюльбюля перед последним концертом в Шуше: «… если наш народ не сбросит с себя это равнодушие, то в скором времени армяне станут говорить, что Шуша принадлежит им, и мы потеряем Карабах».
В тот день в конце концерта он спел романс У. Гаджибекова «Сянсиз» («Без тебя»). Как Шуша может забыть его соловьиный голос? Ах красавица Шуша, до каких пор мы будем петь с болью в сердце романс «Сянсиз» в ожидании воссоединения с тобой?! Бюльбюль тоже с тоской в сердце в последний раз спев романс, через месяц ушел из жизни, беспокоясь о судьбе Шуши. С той поры многое сменило свой адрес…Я вспомнила стихотворение Бахтияра Вахабзаде о наших днях без Шуши «Соловей, не пой»:
Этой весной не пой соловей, ради Аллаха, Темнота, некому осветить тебе путь.
Шуша в слезах вся, ушел весь народ, Некому подпеть сладкой твоей трели.
Долгие годы спустя в газете «Халг» («Народ») от 27 сентября 1997 г. вышла статья К.Керимова о Бюльбюле «Назидания Бюльбюля»: «…26 сентября 1961 г. рано утром мне позвонил мой брат Кямал и сказал, что в полночь скончался Бюльбюль. Услышав это я в первую очередь со слезами на глазах побежал в студию, нашел Наримана и спросил его об участи киноматериалов, которые мы сняли в Шуше. Оказывается, он еще не забрал ленту из лаборатории. Мы с Нариманом отправились на киностудию и попросили, чтобы их быстрее подготовили. Мы очень волновались, так как во время съемок погода была облачной, и мы не знали, как получились кадры. По счастью все материалы съемок получились качественными. Я отдал отснятое и сценарий режиссеру Кямилю Рустамбекову, и он создал документальный телевизионный фильм «Народный исполнитель». С той поры прошло 35 лет и каждый год этот фильм показывают по телевизору в годовщину смерти Бюльбюля – 26 сентября».
14 июля в 1969 г. Гейдар Алиев был назначен 1-ым секретарём ЦК КП Азербайджана. Он словно услышав тревожный призыв Бюльбюля, пришел на помощь Карабаху. Собрав вокруг себя всю интеллигенцию страны, он отправился большим караваном в Карабах и провел здесь невиданный в истории праздник культуры. По его инициативе была построена гробница Вагифа, открыты музеи Натаван, Узеир бека, Бюльбюля и др. известных людей. Также была отреставрирована почетная аллея видных деятелей культуры и поставлены их памятники. Древняя Шуша благоустроилась, помолодела, впервые перед зданием Областного Исполкома в Ханкенди повесили азербайджанский флаг…
20 августа 1997 года уважаемый Президент теперь уже независимого Азербайджана Гейдар Алиев издал указ: «Отметить100-летний юбилей со дня рождения основателя азербайджанского вокального искусства, видного исполнителя, педагога и общественного деятеля Бюльбюля».
С этой целью юбилейная комиссия составила план по проведению ряда мероприятий. Мы уверены, что венцом этих мероприятий будет проведение Международного музыкального фестиваля «Хары бюльбюль» в Шуше и этим мы осчастливим душу Бюльбюля.”
Нариман Мамедов, оператор: «Когда в 1956 г. открылось телевидение, я был в числе первых, кто туда направился работать и в короткое время стал главным оператором. К.Керимов тогда был главой музыкальной редакции телерадио и часто обращался ко мне в связи со съемками. Самыми запоминающимися нашими совместными работами стали фильмы посвященные Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю.
О нашей работе над фильмом о Бюльбюле, о поездке в Шушу К.Керимов подробно описывает в своей книге «Жизнь сквозь музыку». Я не смогу описать все как он, но в моей памяти живы эти воспоминания. Во время путешествия у меня была возможность ближе узнать великого Бюльбюля. И сегодня, когда я вспоминаю его как человека доброго и простого, то огорчаюсь его смерти. Внезапная кончина Бюльбюля сильно потрясла К.Керимова и меня. К.Керимов решил снять фильм, используя эти последние ленты. Некоторые кадры были нужны, и я снова один отправился в Шушу. Там по заданию К.Керимова я провел съемки. Каждый раз просматривая этот фильм, я чувствую гордость ведь я тоже принимал участие в его создании, и как непосредственный участник этого дела могу сказать, что именно благодаря стараниям К.Керимова эти кадры получив долголетие сохранили Бюльбюля для будущих поколений».
И вновь обратимся к книге «Жизнь сквозь музыку»: «…В Азербайджане не было такого композитора, исполнителя, певца, с которым я не был бы знаком. Когда я готовил передачу, часто ездил к ним в гости и даже близко знакомился с членами семьи…В первую очередь подготавливая передачу о творчестве великого Узеира Гаджибекова, я отправился в его квартиру, в которой он жил последние годы и познакомившись с его супругой Малейкой ханум побеседовал с ней…Она была сильно расстроена. Дабы утешить ее я сказал, что перед зданием Консерватории возносят великолепный памятник гениального композитора. Малейка ханум печально вздохнула и сказала: «Эх сынок, лучше уж вместо этого памятника об Узеир беке сняли фильм и сохранили его для будущих поколений. Что такое памятник? Его всегда можно поставить…Эти ее слова на меня сильно подействовали и удивили…Ведь тогда уже было и кино, и звукозапись…Потом в киноархиве я нашел 10-ти минутный киножурнал «Награжденный Азербайджан», посвященный 60-летнему юбилею Узеира Гаджибекова, проведенному в 1945 г… В архиве нашего радио не было ни одного его выступления, записанного на ленту…
Дом-музей Узеира Гаджибекова еще не был открыт. Рамазан Халилов (долгие годы был личным секретарем У. Гаджибекова) привел в порядок личный архив композитора, собрал его в папки, готовил для музея. Однажды он показал мне его архив и сказал: «Смотри, здесь собраны более 500 фельетонов и статей У. Гаджибекова».
Если бы даже Узеир бек и не сочинял музыку, он все равно бы вошел в историю как видный журналист своего времени…дабы подтвердить это я хочу привести пример его первой статьи. В 210 номере газеты «Петербургские ведомости» от 1905 г. женщина по имени Магда Нейман написала очень мерзкую и полную клеветы статью о кавказских мусульманах, т.е. о нас турках. Она представляла кавказских турок русским читателям, как диких животных, как невоспитанное, необразованное, бескультурное племя и наконец, проявляя свою истинную цель советовала царскому правительству отнять земли у турок, проживающих в Закавказье, сослать их, а на этих землях поселить русских мигрантов и армян. Понятное дело, что эта мерзкая статейка была написана с подачи дашнаков. В тот год Узеир бек только переехал из Шуши в Баку, и начал преподавать в Бибиэйбатской школе…Он немедля ответил этой бесстыдной клевете в 62 номере газеты «Хайат», напечатав статью за подписью «Узеир». Тогда Узеиру Гаджибекову было 20 лет… Я не смогу представить азербайджанский народ, его государство без Узеира Гаджибекова. Мне кажется, что он наша совесть, нравственность и вечный гимн».
Жестокая политика Царской России направленная на уничтожение истории, национально-духовных ценностей нашего народа широко освещена в книге «Азербайджан в начале ХХ века: пути, ведущие к независимости». Автор книги начальник Секретариата Президента Азербайджанской Республики, доктор исторических наук Диляра Сейидзаде. Книга, основанная на богатых исторических материалах, посвящена «Гейдару Алиеву, воссоединившего Азербайджан с вечной независимостью». Обратимся к книге: «…Одним из проявлений царской колониальной политики на Кавказе, в том числе и в Азербайджане была кампания по переселению. Суть кампании заключалась в насильном переселении на самые лучшие земли этого края сначала армян, а затем русских крестьян. Начавшаяся в 30-ые гг. ХIX века кампания по переселению постепенно стала носить последовательный характер, а затем и вовсе превратилась в целенаправленную политику. 15 апреля 1899 г. царем был издан «Закон о разрешении переселения в Закавказье»…Для переселения были выбраны плодородные земли… В 1905 г. А. Агаев в статье «Необходимые разъяснения для петиций мусульман» писал: «Можно сказать, что еще ни один народ не был так забыт и так угнетен, как мусульмане. Их словно и не было»…А.Агаев писал, что из богачей только Гаджи Зейналабдин Тагиев осознавал какую роль играет их богатство для народа».
Темные силы, пытающиеся показать нас невоспитанными, необразованными дикарями так и не смогли достигнуть своей цели. Видный мыслитель XIX века – Мохсун Навваб, глубоко изучивший философию, мудрость, логику и астрологию, в Карабахе управлял музыкальными собраниями. Обратимся к его статье «Об мусульманско-армянской вражде в 1905-1906 гг.»: «…Во-первых, надо знать, что…армяне очень злопамятны, враждебны, высокомерны и эгоистичны…Первопричиной всех беспорядков и конфликтов, происходящих на Кавказе, были армяне…Другого такого жестокого и дикого народа нет…В скором времени вы пожнёте плоды жестокости, чьи зерна сеете в своем же народе…Дерево, чьи плоды приносят лишь жестокость когда-нибудь выдернут с корнем…».
Разве те, кто преподавали и учились в созданной в 1881 г. Шушинской реальной школе были безкультурными? К примеру, преподаватель школы Мирза Салех бек Зохраббеков, получивший образование в России и Франции, автор учебника «Русский язык для азербайджанцев». Вспомним выпускников школы наших видных писателей Юсифа Везира Чеменземинли и Абдурахим бек Хаквердиева. Если бы Магда Нейман поискала у армян те дикие качества, которые приписала нам, и хоть чему-нибудь научилась у нас у Кавказских турок, то устыдилась бы своей клеветы и лжи…Когда в 1992 г. армяне оккупировали Шушу, как истинные дикари армяне словно вымещая зло сожгли и эту школу. Ходящий, говорящий, думающий дикарь – самый опасный враг. В «Калиле и Димне» есть такая мысль: «Тот, кто стал соседом плохому человеку и начал с ним дружить похож на морского путешественника. От утопления спасется, но от неприятностей легко не спасется».
Темы произведений У.Гаджибекова созвучны со временем. Опера «Кёроглы» была призывом освободиться нашему народу от гнета. Сочинивший музыку к гимну Азербайджана Узеир бек наша гордость и вдохновение. В его вечно живых операх и романсах прививается любовь и преданность родине, а также лирические настроения обладают духовной силой. Гении, которых взрастила Азербайджанская земля, своими произведениями искусства играют особую роль в истории культуры человечества.
Член-корреспондент Азербайджанской Академии Наук, профессор, заслуженный деятель искусств, музыковед Земфира Сафарова анализирует факты, давшие направление деятельности Узеира Гаджибекова: «Произведения Сафиаддина Урмави новый этап в развитии музыкально-теоретической мысли на Востоке. Он вошел в науку о музыке как основатель «Системной школы». Большое достижение Урмави состоит, в том, что он привел в порядок звуковую систему Востока. Основа его системы в 17 ступенчатой гамме, которая отличается от 12 тоновой хроматической гаммы аль- Кинди и 22 тоновой гаммы аль- Фараби. На основе этой системы он создал совершенную табулатуру, определил звукоряды 12 макамов и 6 авазов… Книга У.Гаджибекова «Основы азербайджанской народной песни» по своему содержанию и составлению близка к «Китаб аль-адвар»…Это произведение стало продолжением сочинения Урмави, на уровне отвечающим требованиям азербайджанской музыкальной науки. Потому «Основы азербайджанской народной песни» можно назвать «Китаб аль-адвар» новой эпохи».
Конфуций говорил: «Если хочешь знать, как обстоят дела с правлением страны, здоровы ли нравы, прислушайся к ее музыке».
В 20-х гг. ХХ века появились претензии к У.Гаджибекову по поводу того, что будто бы в его музыке мало политико-общественных мотивов и присутствует буржуазное мировоззрение. Какое имеет отношение к социалистической культуре оперетта «Аршин мал алан», рассказывающая о милосердном быте помещиков и богатых торговцев? Время показало, что отношение есть и большое. История – духовное зеркало народа. Только в этом зеркале мы познаем себя и свои корни. А чтобы добиться этого немало дров наломали. В то время в ответ на отрицательное отношение Народного Комиссара Просвещения республики Мустафы Кулиева на народные музыкальные инструменты У.Гаджибеков в 8-9 номерах журнала «Просвещение и культура» от 1926 г. музыкальными терминами пытался его уверить: «…Товарищ Кулиев предлагает, чтобы…мы приняли европейскую «Темперированную» 12 тоновую систему. Инструмент, раскрывающий красоту этой системы – фортепиано. Возможно ли сыграть на фортепиано восточные мелодии?…Основной тон Сегяха и песен на Сегяхе не подойдет к фортепиано. У фортепиано низкий звук после «ми» «ми-бемоль»…В таком случае для Сегяха между «ми» и «ми-бемоль» должен быть еще один тон…».
Музыковед Кямаля Асадуллаева высоко оценивает деятельность композиторов, которые приложили немало сил, чтобы азербайджанская музыка и мугам дошли до будущих поколений: «Реконструкция над 17,19-ю струнным таром, считающимся венцом всех музыкальных инструментов в Азербайджане, была поручена У. Гаджибекову. Гаджибеков реконструировал тар, сохранив при этом некоторые элементы».
В 1928 г. М. Магомаев впервые перенес на ноты мугам «Раст», а Ниязи в 1935 г. дяргяхи «Шур» и «Раст», но они не были напечатаны.