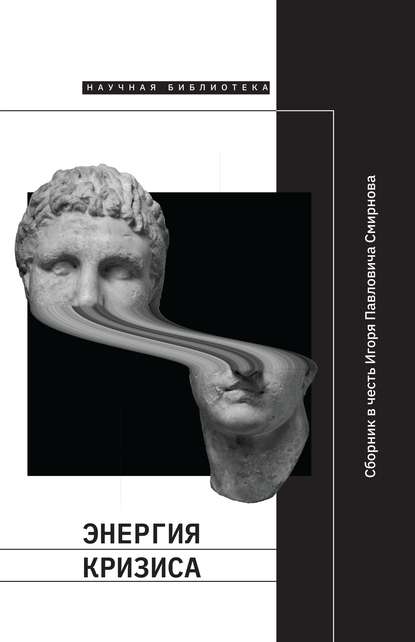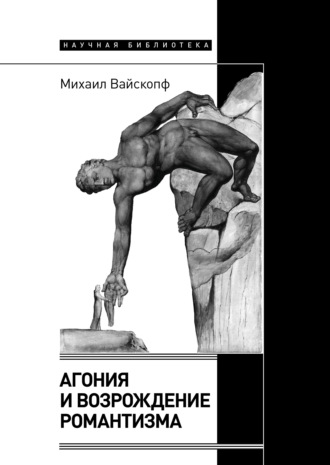
Полная версия
Агония и возрождение романтизма
Часть 2. Голубая тюрьма: Очерки о Фете
Борьба за Афанасия Фета
В 2007–2008 годах в журнале «Наше наследие» С. В. Шумихин напечатал, со своими ценными комментариями, корпус писем Г. П. Блока Б. А. Садовскому, датированных 1921–1922 годами. Значительная часть материала посвящена Фету, которого оба они боготворили. Инициатором переписки был Георгий Блок[178] (двоюродный брат А. А. Блока). Углубившись в изучение Фета, он надумал заручиться помощью признанного знатока темы, к тому же человека, идеологически ему близкого. Письма Садовского пока не найдены.
Обоих корреспондентов, как и прочих поклонников Фета, прежде всего интриговала тайна его национального происхождения. Во вступительной статье Шумихин заметил по этому поводу:
До последних лет национальность одного из крупнейших русских поэтов оставалась предметом споров не чисто теоретических. Перед этим вопросом неизбежно останавливались все исследователи; и тогда, и позже он вызывал горячие прения.
Подразумевается гипотетическое еврейство Фета, которое на протяжении целого столетия чрезвычайно тревожило почитателей его дара. Важную роль здесь, без всякого сомнения, сыграло знаменитое стихотворение молодого еще поэта:
Когда мои мечты за гранью прошлых дней,Найдут тебя опять за дымкою туманной,Я плачу сладостно, как древний иудейНа рубеже земли обетованной.Почти наверняка эта проблема занимала и Шумихина. Предваряя публикацию, он туманно заметил, что «национальная или расовая принадлежность автора далеко не всегда прямолинейно определяет его творчество (достаточно вспомнить о предках Пушкина)», – и с несколько наигранным недоумением прибавил, что «по отношению к Фету этот аспект почему-то приобрел неправомерно большое значение». Публикуемый им материал служит наилучшей тому иллюстрацией, о чем пишет и сам исследователь: «Очень подробно обсуждается Блоком и Садовским, говоря современным слогом, „пятый пункт“ анкеты Фета. Увы, антисемитская жилка в те годы активно пульсировала у обоих, и умолчать об этом было бы неверно. Получив первое письмо от Блока, Садовской прежде всего счел необходимым справиться у Б. Л. Модзалевского, ариец ли написавший ему. Невесту себе он просил найти непременно также арийского происхождения», – а вдобавок наделенную изяществом и прочими мыслимыми и немыслимыми достоинствами. Некоторую пикантность, добавим от себя, этим матримониальным изыскам придает то обстоятельство, что Садовской давно уже болел сифилисом, причем в крайне тяжелой форме, а потому сомнительно, чтобы подобный брак осчастливил его расово чистую супругу, если бы и нашлась таковая.
Как бы то ни было, начинающий фетовед вполне одобряет расовую бдительность старшего коллеги: «Думаю, что на Вашем месте я тоже стал бы наводить подобные справки», – и приводит свою краткую родословную, якобы доказывающую, что и он, Блок, – ариец. Только тогда успокоенный адресат стал отвечать на его вопросы. Уже первый из них, естественно, включал в себя и такой пункт: «Откуда (у Фета. – М. В.) еврейская кровь?» – и эта волнующая тема отныне проходит сквозь всю переписку.
Для Садовского все усугублялось тем, что Фета он считал величайшим русским поэтом, едва ли не равным Пушкину, а в зачине одной из своих статей 1910 года даже возгласил: «Сам по себе тот факт, что Россия целиком прозевала Фета, – страшен: он заставляет усумниться в праве нашем на национальное бытие»[179]. При такой экстатической оценке понятна и его обостренная чуткость к чистоте крови – велась борьба за расовые приоритеты[180]. Но проблема чрезвычайно интриговала и людей, далеких от протонацистских воззрений. Напомню в самых общих чертах о главных этапах ее развития.
Уже вскоре после смерти Фета в печать проникает сообщение о том, что его мать была еврейкой. Так, в 1898 году фраза «покойная его мать была немкой еврейского происхождения» появилась в воспоминаниях Я. П. Полонского[181]. Весомость его словам придавал тот факт, что мемуарист прекрасно знал Фета, который, в свою очередь, однажды напомнил ему об их «постоянных дружеских, или лучше сказать, братских отношениях в течение сорока лет; ты один из четырех человек, которым я в жизни говорю ты»[182]. Через год известный тургеневед Н. Гутьяр вслед за Полонским тоже назвал ее «немкой еврейского происхождения»[183] (в 1907 году он повторит это определение в книге о Тургеневе). Позднее, в декабре 1920 года, отвечая на запрос Г. Блока, сестра Софьи Андреевны Толстой Т. А. Кузминская заявила: «Он всю жизнь страдал, что он не Шеншин, как его братья, которые признавали его за брата, а незаконный сын еврейки Фет»[184]. Так считал и сам Лев Николаевич. Седьмого апреля 1921 года Г. Блок делится своей тревогой с Садовским:
И недаром же все, кто знал Фета, утверждают, что у него была еврейка-мать. То же повторяет и Толстой, знавший его еще очень молодым и экспансивным и имевший, может быть, случай слышать что-нибудь по этому поводу от самого Фета.
Среди ранних произведений Фета имеется стихотворение «Блудница» – одно из нечастых у него обращений к Евангелию. Созданное не позднее марта 1843 года, оно сохранилось лишь в письме В. П. Боткина А. А. Краевскому, редактору «Отечественных записок». Это вариация на тему Ин. 8: 3–11, где повествуется, как Иисус спас от казни женщину, уличенную в прелюбодеянии:
Но Он на крик не отвечал,Вопрос лукавый проникая,И на песке, главу склоняя,Перстом задумчиво писал.Во прахе, тяжело дыша,Она, жена-прелюбодейка,Золотовласая еврейкаПред ним, грешна и хороша.Ее плеча обнажены,Глаза прекрасные закрыты,Персты прозрачные омытыСлезами горькими жены.И понял Он, как ей сродно,Как увлекательно паденье:Так юной пальме наслажденьеИ смерть – дыхание одно.Комментируя стихотворение, В. А. Лукина отмечает, что оно «было написано под впечатлением от картины, которую Краевский переслал Боткину в конце 1842 года» и которая привела в восхищение адресата[185]. Бог весть, о какой картине шла речь – таких было несметное множество. Вся эта история нанизана, однако, на ось другого – лишь молчаливо подразумеваемого здесь – сюжета. Ведь Краевский, подаривший картину Боткину, был и сам сыном «блудницы» – так что эта живописная иллюстрация к Евангелию служила как бы завуалированной апологией его собственной матери. Но и в глазах Фета картина стала импульсом для той же болезненной темы, развернутой в его стихотворении, которое он через Боткина передал Краевскому. Последний, однако, его не напечатал – как никогда больше не пытался напечатать его и сам Фет (оно вышло лишь после его смерти). Как видим, еврейскую «жену-прелюбодейку» он оправдывал здесь ее неодолимой тягой к «наслажденью» – что, очевидно, слишком отчетливо наводило на мысль о его собственной матери, некогда сбежавшей от мужа с возлюбленным. Да и строки о смерти, сопряженной с наслаждением, были уже тогда чудовищно неуместны – несчастная Шарлотта-Елизавета умирала от рака[186]. Позднее в письме к И. Борисову он назвал ее «неслыханной страдалицей» и помянул «те пути тернистые, которыми шла мать до холодной утробы земли» (ЛН 1: 102).
Так или иначе, у поклонников Фета сложилась своеобразная дихотомия – теория двух национальных полюсов в личности Афанасия Афанасьевича. Трактовались они довольно прихотливо, в зависимости от предпочтений того или иного автора. В ценной и во многом новаторской книге 1916 года о Фете «Радость земли» Д. Дарский, веривший в отцовство А. Н. Шеншина, пишет:
«Страдалица-мать», дочь «туманной» Германии, полуеврейка по крови, привила своему сыну идеалистическое тяготение к запредельному, к сверхземному и ту пустынную меланхолию, которая так впиталась в исконно гонимую, скорбную расу. Но сверх того Фет был и Шеншин, наследственный потомок необозримого ряда кровных землевладельцев, пахарей и усадебных владык[187].
Совершенно другое впечатление поэт произвел на Г. А. Рачинского, в 1929 году поведавшего Садовскому: «Мне казалось, что я вижу мудрого, спокойного талмудиста. И в то же время чувствовался старый барин»[188]. В кругу Толстого еврейская компонента, напротив, вызывала отчетливое неприятие, о котором я расскажу позже; но сыном помещика Шеншина его здесь, конечно, не считали.
Скорее всего, однако, Шарлотта-Елизавета Беккер, мать поэта, не была еврейкой. Известно зато мнение, что евреем был подлинный отец поэта. Как предполагает А. Я. Сыркин, она, будучи замужем, забеременела от какого-то заезжего еврея, а влюбившийся в нее Шеншин с согласия разъяренного супруга и за денежный выкуп взял ее к себе, прикрыв грех женитьбой.
В воспоминаниях, изданных в 1937 году, И. Грабарь, называя ее «красавицей-еврейкой», а отца – «кенигсбергским корчмарем», ссылается затем на рассказ своего приятеля, известного коллекционера, прекрасного знатока жизни и творчества Фета Н. Н. Черногубова. Твердо решив выведать происхождение любимого автора, тот «поехал к нелюдимому Фету в его имение, сумел завоевать его полное расположение и пробыл там целое лето <…>». Он бывал у Фета после этого еще не раз, был даже в день его смерти и присутствовал на похоронах. Черногубов знал, что у Афанасия Афанасьевича давно уже был таинственный конверт, лежавший всегда под его подушкой, с надписью: «Вскрыть после моей смерти». В нем, по догадкам Черногубова, должна была находиться окончательная разгадка происхождения поэта. Конверт после смерти действительно был вскрыт родными, после чего его вложили в гроб, тоже под подушку, но Черногубов не знал его содержания. У него хватило решимости достать конверт и ознакомиться с его содержанием. То было письмо матери поэта, на конверте которого стояли те же слова: «Вскрыть после моей смерти»[189].
Несколько иную историю насчет рокового письма, вложенного в гроб, приводит Илья Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь»:
Поэт Фет, Афанасий Афанасьевич Шеншин, кроме хороших стихов, писал еще нехорошие статьи в журнале Каткова. Он обличал нигилистов и евреев, в которых видел первопричину зла. Племянник Фета, Н. П. Пузин, рассказывал мне, что поэт из письма-завещания своей покойной матери узнал, что его отцом был гамбургский еврей. Мне рассказывали, что Фет завещал похоронить письмо вместе с ним <…> После революции кто-то вскрыл гроб и нашел письмо[190].
В этом апокрифе настораживает его неверный зачин: на деле Фет вовсе не видел в евреях «первопричины зла» и не участвовал ни в каких антисемитских кампаниях; да и М. Н. Катков, при всем своем консерватизме, был противником юдофобии. К тому же катковский «Русский вестник» печатал Фета неохотно, и отношения были крайне далеки от идиллии.
Всегдашнее расположение Фета к частной инициативе, колоритно сочетавшееся с заемными дворянскими амбициями (см. ниже), даже заставило его укоризненно противопоставить еврейскую торговую сметку плачевной бездарности, лени и легкомыслию «нашего дворянства»[191]. Вообще по российским меркам его отношение к евреям носит, так сказать, среднестатистический характер. По большей части он отзывается о них вполне нейтрально либо слегка неприязненно, с нормативной иронией[192]; а кое-где не без симпатии – например, повествуя об умной еврейке, содержавшей хорошую гостиницу, где столовались офицеры (РГ: 369 и др.).
Как очень многие русские поэты, он обожал Гейне, ненавистного для немецких антисемитов, а Льву Толстому с умилением писал о композиторе-еврее: «Жена набренькивает чудные мелодии Мендельсона, а мне хочется плакать»[193]. Вспоминая о своих ранних годах, Фет рассказывает, как в Москве «отец» завез его в гости к своему дальнему родственнику С. Н. Шеншину, чьим «постоянным чтением» был Капфиг (Capefigue): имеется в виду его весьма юдофильская «Философическая история иудеев от упадка племени Маккавеев до нашего времени»[194]. При этом С. Шеншин покровительствовал малолетним братьям Рубинштейнам, которые у него дома «блистательно играли» на рояле и «с которыми позднее мне случалось встречаться не раз в период их славы» (РГ: 173–174). В письме к С. А. Толстой от 14 апреля 1890 г. Фет доходит до пафоса: «Нельзя человека, не целующего рук у Рубинштейна, убедить в гениальности последнего» (ЛН 2: 197).
Культурологический антисемитизм вагнеровского типа в его переписке проявляется значительно реже, чем, допустим, в продукции Я. Полонского либо И. Гончарова, и явно ориентирован на вкусы корреспондента. Ср. в курьезно льстивом послании Фета к его сиятельному эпигону и покровителю К. Р. (как все Романовы, тот не выносил евреев): читая стихи великого князя, «дышишь живительною свежестью и забываешь искусственные микстуры современной жидовской поэзии» (подразумевались Надсон и Фруг, к которым Фет оптом прибавит затем Фофанова и Мережковского), – ибо «Ваше Высочество полною чашею черпаете прямо из Ипокрены» (ЛН 2: 670)[195]. В те же годы на антисемитский лад попытался настроить его сенатор Н. П. Семенов, расхвалив нашумевшую La France Juive Э. Дрюмона – «историю того, как евреи завладели Францией», помогающую раскрыть «глаза на жидовскую язву и обратить на нее внимание правительств, пока не поздно»[196], но не встретил у Фета сочувствия.
Все это, конечно, никак не подтверждает, но и не отвергает свидетельства Пузина. Странным образом еврейская нота вообще изначально сопровождает поэта. Когда он собрался в армию, отчим отдал ему
в услужение сына Васенькиной кормилицы Юдашку [Вася – единоутробный брат Фета] <…> Говорили, что поп в сердцах дал моему будущему слуге имя Иуда. Как бы то ни было, хотя я звал его Юдашкой, имя его стесняло его, а через него и меня в жизни (РГ: 262)[197].
Не захотел ли о. Яков «в сердцах» жестоко отыграться за то, что ему пришлось фальсифицировать происхождение[198] окрещенного им Фета? Ведь такое имя было просто невообразимой дикостью для православного человека – неудивительно, что настрадались из-за него оба: и слуга, и хозяин. На более аутентичных «Юдашек» Фет мог с избытком наглядеться и в самой армии, где они сопутствовали ему пародийной тенью:
Еще с первого дня похода мы могли любоваться жидовскою почтою, состоящей из жидка, скачущего на неоседланной лошади. Такой наездник, с треплющимися пейсами и рукавами, обгонял эскадронные колонны, чтобы с возможной скоростью дать знать шинкам о пути прохождения войска[199].
Как быть все же со специфически еврейской внешностью «мудрого талмудиста», каким Рачинский называл Фета? Отмечали ее постоянно, а интерпретировали в основном враждебно – даже те, кто восхищался его поэтическим даром. Сюда относится ближайшее окружение Толстого: Кузминская, Татьяна Сухотина и ее брат Сергей Львович Толстой. «Познакомилась я с ним, когда мне было 15–16 лет», – пишет Блоку Т. Кузминская, та самая, которой посвящено стихотворение Фета «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…».
Его привез к нам Лев Николаевич. Это был не первой молодости, довольно красивый (в пошлом смысле) человек, с еврейским типом[200].
В прозрачно ассоциативное родство с национальным «типом» поставлены у Кузминской отрицательные стороны фетовской личности: эгоцентризм, холодность, полнейшее равнодушие к людям. Дочь Толстого, Татьяна Сухотина, повествуя о своих детских впечатлениях, по сути, также подчеркивает еврейские приметы в его облике, однако никакой «красоты», даже пошлой, в нем не находит:
Фета мы не особенно любили. Нам не нравилась его наружность: маленькие, резкие черные глаза без ресниц, с красными веками, большой крючковатый сизый нос <…> все это было непривлекательно[201].
Ее брат Сергей Львович в воспоминаниях, подготовленных к изданию Н. Пузиным (тем самым, что рассказал Эренбургу о еврействе поэта), называет наружность Фета «характерной» для еврея:
Большая лысая голова, высокий лоб, черные миндалевидные глаза, красные веки, горбатый нос с синими жилками <…> Его еврейское происхождение было ярко выражено.
Этому генезису явно соответствуют у мемуариста и неприглядные психологические свойства Фета – искательность, расчетливость, холодность к людям:
В нем не было добродушия и непосредственной привлекательности, что не исключает того, что он был добрым человеком. В нем было что-то жесткое и, как ни странно это сказать, было мало поэтического. Зато чувствовался ум и здравый смысл[202].
А Гутьяр, порицавший Фета за болезненное влечение к аристократии, симптоматически сравнивал его мемуары с «приходно-расходной книгой»[203].
По убеждению П. Бартенева, еврейское происхождение Фета «ярко и несомненно выказывалось его обличьем»[204]. Решительно поддержав этот довод, «характерные еврейские черты» в его лице отметил также известный исследователь В. С. Федин, предположительно связавший их с родом Беккеров, к которому принадлежала мать поэта:
На известном портрете И. Е. Репина, писанном в 1881 году, они особенно бросаются в глаза. Пусть это доказательство и не так убедительно, как документальные данные, – вполне возможно предполагать, что Беккеры были еврейского происхождения, хотя бы по женским линиям[205].
В советское время евреем, как и многие другие, Фета считал Сергей Есенин. Его друг Вольф Эрлих в своих воспоминаниях приводит такой эпизод:
Он слезает с дивана и идет к шкафу. Через некоторое время возвращается с книгой и показывает портрет Фета. «– Ты посмотри! Абрам! Совершеннейший Абрам! А какой поэт!»[206]
Коль скоро в таких суждениях широко используются визуальные наблюдения, решаюсь поделиться и собственным: в Иерусалиме, где я живу, «совершеннейшие Абрамы», почти неотличимые от Фета, встречаются на каждом шагу.
Это впечатляющее сходство снова ввергает нас в область слухов и предположений, нанизанных на готическую историю с загадочным письмом. Несомненно, она была знакома Садовскому: ведь с Черногубовым он поддерживал достаточно близкие отношения. Что касается версии Эренбурга, то мы, конечно, не знаем, кто и зачем, согласно его рассказу, вскрыл гроб Фета и прочел текст, да и произошло ли само вскрытие. Зато известно, кто именно хотел это сделать. Это был все тот же Борис Садовской.
Любовь моя к Фету стала болезненной страстью, – вспоминал он. – Я жил вдвойне: за Фета и за себя <…> Обдумывал план отправиться на могилу Фета, вскрыть гроб и насмотреться на кости. Кошмары эти были приятны[207].
Как бы ни стремился мемуарист эпатировать читателя, дело вряд ли сводилось к подобным приятностям. Невозможно представить себе, скажем, пламенного поклонника Пушкина или Толстого, который мечтал бы разрыть их могилы, чтобы налюбоваться костями любимых писателей. Применительно к Садовскому, мне кажется, уместнее говорить не об эстетической некрофилии, а скорее об особой исследовательской миссии, мысленно взятой им на себя, – вероятно, он фантазировал относительно самой возможности добыть из гроба роковое письмо, чтобы лично удостовериться в истине. Заподозрить при этом Садовского в банальном безумии мы не вправе: позднее он стал очень крупным провокатором НКВД (операция «Монастырь»).
Столь же допустимо, что о загадке «гробового письма» успел прослышать и тот же Г. Блок. В письме от 14 апреля 1921 года он сообщил И. С. Остроухову, как заочно с легкостью развеял расоведческие сомнения Садовского по своему собственному адресу («вышло очень весело») и сумел заручиться его помощью:
По всем заданным мною вопросам он дал пространные, интересные, но несколько догматические объяснения. Я написал ему вторично, прося более «гробокопательских» сведений.
Его тоже угнетала неотвязная мысль о еврейском облике Фета. Почти сразу, в третьем письме к Садовскому – от 7 апреля – он делится с ним мрачными догадками на этот счет, подкрепляя их ссылкой на тогдашнюю науку:
Передача сходства – дело капризное. Ученые, создавшие новую науку «Евгенику», рассказывают по этому поводу много любопытного (кстати, они очень заинтересовались Фетом и наседают на меня со всякими анкетами).
Вслед за Фединой он подозревает, не имел ли «еврейского происхождения» Беккер, дед поэта со стороны матери? «Ведь это кровь стойкая, иной раз десятками поколений ее не вывести».
Без сомнения, в его опасениях просквозил, несмотря на расовую браваду, собственный родовой опыт Блоков[208], – как и в другом письме Садовскому, от 5 мая: «Еврейское обличие [Фета] едва ли было игрой природы. Очень уж оно разительно» (косвенным подтверждением тому вскоре станет посмертная фотография Александра Блока, столь явственно, как обычно и бывает с «маской Гиппократа», запечатлевшая национальное происхождение покойного)[209]. Однако уже 27 сентября того же 1921 года он радостно извещает единомышленника о результатах своих фетоведческих разысканий: «Еврейского нигде ни капли». Выходит, Фет, по крайней мере формально, был немцем – и тем загадочнее выглядит в дальнейшем невнятица автора, когда через три года, описывая Верро в замечательной книге «Рождение поэта», он вскользь заметил: «Говорят, что национальность свою, которую Фет считал русской, он защищал от неметчины умно и деятельно»[210].
Неудивительно, что хотя новость 1921 года пришлась по сердцу адресату[211], она отнюдь не развеяла его тревожного скепсиса. Потом, при личной встрече, Садовской навсегда порвет с Г. Блоком все отношения – не оттого ли, что de visu он не признает в нем «арийца» (несмотря на предшествующие – заочные и «очень веселые» – опровержения)?
Спустя несколько лет Садовского все еще пугает тот репинский портрет Фета, вывешенный в Третьяковке, на который ссылался Федин. О его жгучем беспокойстве свидетельствует письмо К. И. Чуковского И. Е. Репину, датированное Пасхой 1927-го:
Любопытно узнать – как относился к Вашему творчеству Фет? О чем Вы говорили с ним во время сеансов? Что сказал он о своем портрете Вашей работы? Как восприняла Ваш портрет Марья Петровна [жена Фета. – М. В.]?
Концовка запроса, однако, дезавуирует его невинное начало – фразу о простом «любопытстве».
Спрашиваю я не из пустого любопытства, – поясняет Чуковский. – Борис Садовской, заканчивая биографию Фета, просит меня передать Вам эти вопросы и умоляет Вас ответить на них как можно подробнее[212].
Легко догадаться, на что надеялся и чего опасался Садовской, – но из ответов Репина следует, что ни у самого поэта, ни у его жены изображение никаких протестов не вызвало (хотя, как подчеркивает художник, в других случаях Фет крайне бесцеремонно и назойливо вмешивался в его работу)[213].
В 1942 году расоведческую эстафету подхватил в нацистской Германии славист Р. Траутман, поместивший в «Zeitschrift für Slavische Philologie» заметку о происхождении матери поэта[214]. Эмили Кленин с деликатной уклончивостью назвала этот материал «ценным свидетельством породившего его Zeitgeist’a»[215]. В 1990-м, когда тот же Zeitgeist успел уже привольно обжиться в России, свой – неполный, как указала Кленин, – перевод Траутмана в сверхпатриотической «Литературной России» напечатал некто Ю. Юдашкин. (Не потомок ли он того самого Юдашки, который был слугой Фета?) Еще через два года этот перевод переиздали в курском сборнике, посвященном Фету[216], – почему-то снова без ссылки на выходные данные источника, зато по соседству с близкой ему по духу статьей В. Кожинова. Я должен отметить, однако, что купюры носят второстепенный характер – а вместе с тем несколько скрадывают розенберговскую одиозность немецкой публикации, которая вышла в период войны с СССР. В зачине оригинала дважды используется специфически нацистский термин, особенно выразительно звучавший именно в те годы. Наряду с Хемницером и Кюхельбекером, Траутман счел Фета, «вероятно, третьим Reichsdeutsche» на русском Парнасе: по крайней мере у него (как и у Герцена) была reichsdeutsche Mutter[217]. Применительно ко всем трем поэтам Юдашкин просто заменил обозначение Reichsdeutsche словом «немец»; зато мать Фета – вероятно, для большего благозвучия и основательности – он величает все же «имперской немкой» (статус, не совсем понятный для сегодняшнего читателя). Цель самого Траутмана, заявленная им в конце заметки, – на основании документов опровергнуть уже известное нам утверждение Гутьяра, будто Шарлотта Беккер была «немкой еврейского происхождения». При всем том легко догадаться, что в 1942 году в Германии и на оккупированных ею территориях Reichsdeutsche c внешностью Фета не стоило появляться на улице.
Разыскания своего национал-социалистического предтечи увлеченно продолжили Кожинов[218] и Вероника Шеншина, его единомышленница из Хельсинки. Заново проделав в Германии кропотливую работу по изучению дармштадтских документов и отважно преодолев препоны «древнего немецкого шрифта» (то бишь обычного готического шрифта XVIII–XIX веков), Шеншина восстановила, по ее словам,
правду, в частности, относительно вероисповедания матери поэта и ее родственников: из архивных источников следует, что все они были лютеранского вероисповедания[219].
Само по себе это обстоятельство, правда, мало что доказывает – но для юдофобов оно прозвучало утешительно.