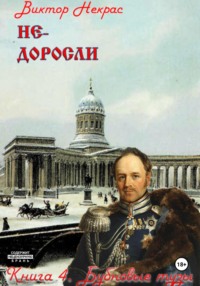Полная версия
Мальчики из провинции
Гришка Шепелёв замолк и, чуть помедлив, бережно закрыл любимую книгу. На несколько мгновений у костра воцарилось молчание, только слышно было, как потрескивают в огне сухие ветки.
– Здо́рово, – выговорил, наконец, Шурка Плотников, подбрасывая в огонь обломок сухой ветки. На его худом и долгом конопатом лице едва заметно играла улыбка. – Если бы ещё звали друг друга по-нашему, так и вообще…
Остальные молчали.
Гришка покосился на ребят. Кто-то глядел в огонь, словно пытался там что-то увидеть, кто-то уже дремал, положив голову на руки. Но кроме Шурки ещё двое смотрели на Гришку внимательно – видно было, что они слушали, как он читает.
– Гриш, – протянул кто-то из ребят. Шепелёв по голосу узнал Савку Молчанова, круглолицего сына зажиточного отходника21, и недружелюбно на него покосился – Савка хоть и звался Молчановым, а молчать не любил! И обожал строить из себя умного, потому что едва ли не единственный из всех новотроицких ребят знал грамоту. Ну и ещё потому, что его отец смог заработать отходничеством на волжских промыслах изрядно денег и не раз выручал мир с податями.
– Ну? – буркнул Шепелёв неприветливо.
– А я вот а твою книжку заглядывал и что-то ни слова не понял. А ты читаешь? Как это так? – на этот раз Савка не язвил, они правда не понимал.
– Она по-французски, – коротко ответил Гришка, не поднимая глаз от огня и надеясь, что он этими словами всё объяснил.
Как же!
– Но ты-то по-русски же читаешь?! – непонимающе мотнул головой Савка. – Как это она по-французски-то?
– Читаю я по-французски, – терпеливо сказал Гришка, уже, впрочем, понимая, что объясняет зря. – Молча читаю, про себя. А потом по-русски рассказываю.
Савка только крякнул в ответ и надулся, как сыч. А Плотников засмеялся:
– Что, умыли тебя, всезнайка? «Я!», да «я!»…
Савка надулся ещё больше, и Гришка дружелюбно сказал:
– Да ты не горюй, Савва… может и ты когда по-французски говорить да читать сможешь…
– Тебе хорошо говорить! – огрызнулся деревенский грамотей. – Ты из господ, вы и учителя нанять можете, чтоб и по-французски научил, и по-аглицки, и по-немецки… да и мачеха у тебя француженка, есть кому учить-то…
– Всякое бывает в мире, – примирительно сказал Гришка, и впрямь чувствуя себя не в своей тарелке и едва сдержавшись, чтоб не сморщиться при упоминании Савкой мачехи. И правда, чего, спрашивается, в ночное Эксквемелина поволок? Эва, нашёл что мужичьим детям читать. Ещё Бёрнса бы прихватил да декламировал про Джона Яменное Зерно, а то своего любимого «Лорда Грегори», рукой над костром махал… то-то смеху бы было. – Может, и тебе подфартит. Станешь дворянином…
Савка в ответ только презрительно сплюнул в огонь. Плевок канул в пламя, коротко и обиженно ши́пнув, и Шурка тут же отвесил Молчанову тяжёлый подзатыльник. Аж стриженная под горшок голова мотнулась туда-сюда, мало не макнув его в огонь русыми вихрами.
– Ты чего?! – обиженно вскинулся Савка, сжимая кулаки.
– Ещё раз увижу, что в огонь плюёшь – и не так ещё дам, – пообещал Плотников, показывая увесистый кулак, весь покрытый конопушками. Молчанов с уважением оглядел кулак – здоровый и крепкий, хоть и худой, Шурка был сильнее его пожалуй, вдвое, и спорить с таким – себе дороже. А Плотников, дав Савке вдосталь наглядеться на его кулак, убрал его и продолжал. – А книжку ты Гришкину не замай. Я б на месте тех пиратов хотел оказаться. Воля! Эх!
Он стукнул кулаком по колену, покрутил головой, словно сокрушаясь о чём.
Гришка знал – о чём.
Про Шуркиных деда и прадеда ходили смутные слухи, будто они когда-то бунтовали, у мятежного Пугача в войске ходили, у самого графа Чернышёва, Чики, под рукой. Прадед – в казаках, а дед – в джурах при прадеде. Прямо указать никто не мог, не было ни видоков, ни послухов, а только болтали разное.
Будто бы прадед Шуркин помещичью дочку похитил…
Другие говорили, будто она сама с ним сбежала…
Будто бы он сокровища Чики где-то за Уфой прятать помогал, да один из всех прятальщиков живой и остался, дед-то.
Будто бы те сокровища казаки у самого графа Строганова выгребли, а тот с войском за казаками теми гонялся по всем башкирским землям.
Будто бы атаман башкирский, Кинзя Арсланов, деду Шуркиному то ли крёстный (как может быть крёстным башкир-магометанин – сплетники не знали и сами), то ли отчим (какой отчим может быть у человека при живом отце – не знали тоже), то ли побратим (какое побратимство может быть между мальчишкой и пожилым головорезом – непонятно было) и свою, башкирскую нечисть уговорил тот клад посторожить.
Будто бы заклят тот клад на сорок голов, а первая уже сгинула – прадеда Шуркиного, запоротого насмерть солдатами Михельсона. А другая – самого Чики голова, на кол в Уфе насаженная полвека назад.
Будто бы ищут Чикины друзья тот клад, а найти всё никак не могут. А дед Шуркин, который спасся, когда бунт громили, знает что-то да молчит – себе дороже язык распускать.
Разное болтали.
Полвека миновало. Чего и не наболтать-то… тем более, что прадеда Шуркиного и на свете нет как раз эти самые полвека, а дед Шуркин и впрямь помалкивает каменно, даже когда подвыпьет. Впрочем, и выпивал Шуркин дед всё реже.
А только мечтал Шурка не о сокровище. О воле мечтал.
– Я бы развернулся там, с Морганом этим! – договорил Шурка, по-прежнему мечтательно глядя в огонь. И, глянув на него, хотелось верить – и в то, что его прадед и дед и вправду разбойничали с Чикой, и в то, что он и вправду развернулся бы на службе у Моргана. – А, Гриш? Развернулись бы?
– Развернулись бы, – насмешливо сказал Савка, щурясь на огонь. – Только вот нету больше тех пиратов. Кончились.
– Можно на флот служить пойти, – негромко сказал Гришка. Так говорят про свою мечту – тихо и осторожно.
– Верно! – согласился Шурка. – И пойдём!
– Можно и пойти, – сказал Савка с ядом. Глянул так, словно пакость собирался сделать. Или сказать. – Только вот ты-то, Гриш, офицером на флоте будешь, а ты, Шурочка – матросом. И будет Гришка тебе за провинности спину полировать плетью. Ну или чем там. Враз про французские красивые побасенки забудете небось.
Шурка, наливаясь бурой кровью (видно было даже при свете костра), открыл было рот, чтобы что-то сказать в ответ, но тут подала голос его сестра, Маруська – худенькая девчонка тринадцати лет, единственная девчонка в их ночном. Она сидела с другой стороны костра, прямо напротив Гришки, и всё время, пока он читал, молчала, неотрывно глядя на него сквозь костёр и сквозь упавшие на лоб темно-рыжие волосы, такие же, как у брата.
– Тебе не нравится, – ты не слушай, – отрезала она. Мальчишки дружно вытаращились на неё, Маруська смутилась и затеребила длинную косу в руку толщиной, переброшенную через плечо.
Савка вскочил с места, как ужаленный. Позже Гришка так и не смог припомнить, чтобы Молчанов хоть раз заикнулся, что ему книжка не нравится. Но раз уж разговор пошёл так, то он не стал оправдываться.
– К барчуку подлизываетесь?! – яростно прошипел он, сжимая кулаки. Мальчишки и девчонка некоторое время непонимающе смотрели то на Шурку, то на Шепелёва, потом вдруг дружно расхохотались. Почти никто у костра и не помнил о том, что Гришка вообще-то сын помещика. Барчук, как сказал Савка.
Хотя барчук из него…
Смех стегнул Молчанова, словно плетью. Несколько мгновений он постоял, всё так же сжимая кулаки и глядя на смеющихся товарищей, потом опять сплюнул в огонь и повернулся – уйти.
Не ушёл.
Шурка вскочил на ноги и неуловимым движением вдруг оказался с Савкой рядом. Стремительный тычок, подзатыльник – и Молчанов полетел с ног, только пятки мелькнули. Покатился кувырком в траву.
– Я предупреждал, – холодно сказал Шурка, потирая ребро ладони. – Не злись потом. В следующий раз и вовсе морду разобью.
Савка вскочил, злобно посмотрел на всех, утирая с разбитого носа кровь и сжимая кулаки, потом опять повернулся и пошёл прочь, что-то бормоча себе под нос и поддавая босой ногой попадающиеся под ноги муравейники.
Мальчишки и девчонка проводили его взглядами, потом снова уселись у костра.
– А вообще он в чём-то прав, – неохотно сказал вдруг Шурка. Его словно что-то толкало и заставляло говорить.
– Ты про что это? – непонимающе поднял бровь Гришка. – Про то, что я – барчук?
И постарался усмехнуться как можно непринуждённее.
– Да нет, – с досадой сказал Шурка. Несколько мгновений он морщился, крутя в голове мысль так и сяк, злобно потирая двумя пальцами веснушчатый нос. Наконец неуверенно выговорил:
– Подлизываться к тебе мы, конечно, не подлизываемся, – в голосе его вместе с неуверенностью прозвучала угроза – какая-то сволочь смеет сказать, что он, Шурка Плотников, к кому-то подлизывается! – Но вот… оттого что ты, сын барина, – наш друг… есть что-то лестное на душе. Слов я не знаю, чтоб правильно сказать.
– Я понял, – Гришка отвернулся. Да, и впрямь, объяснил Шурка – лучше не придумаешь. А то, как бы не подумал кто из ребят, что это он, Гришка, барчук, подлизывается к Шурка, памятуя пугачёвщину. Будут, мол, опять пускать холопы красного петуха господам, так может и вспомнят про старую дружбу, пожалеют.
Сжал зубы.
Никогда, ни одной мысли о том прежде у него не возникало. А вот Шурка видно, думал что-то такое.
На мгновение Гришка испытал невероятную злобу к Савке – ишь, нагадил словами в душу. Теперь хочешь, не хочешь, а будет всё время думаться про то. И про пугачёвщину. И про свой возможный страх. И про то, что (прав Молчанов, сучонок!) доведись им обоим служить на флоте (ему-то, Гришке, точно придется!), то и вправду, Гришке Шепелёву быть офицером, а Шурке в лучшем случае – боцманом. Но это лет через десять, а сначала – матросом. И про плеть, вестимо (плеть на флоте называется линёк!), которой он (не он, а боцман, но по его приказу!) будет полосовать Шурку. И нет-нет, да и заползёт теперь гаденькая мыслишка – а ну как и Шурка про то думает?! Потому и дружит с ним?!
С барчуком.
2
Рассвет слабо засерел по окоёму, разгоняя облака и воровато отдергивая чёрный полог ночи. За ночь с озера наполз туман, и кони звучно фыркали и топотали копытами где-то в вязкой молочной его глубине. Мальчишки, то и дело зябко ёжась, торопливо собирали сушняк и высекали огонь.
Гришка поёжился, выбираясь из-под старой отцовской шинели, потертой временем, пожжённой у походных костров и побитой молью. Сел, ещё кутаясь в расстёгнутые полы шинели, попытался, не раскутываясь, застегнуть хлястик.
Не преуспел.
Встретился глазами с внимательным взглядом Маруськи. На мгновение смутился, но тут же опомнился, задрал нос, делая вид, что ничего не случилось.
Случилось у Иванова с Чередой. Никиты Иванова, кузнеца с Михайлова хутора с Ганной Чередой, женой беглого малороссийского крестьянина. Все ухмылялись и делали вид, что так и должно быть.
У них – ничего не случилось.
Пока.
Пока не случилось.
Маруська, меж тем, спокойно села, откинув рогожу и, одёрнув подол, принялась прибирать волосы. Мышцы под её рубахой так и ходили, и Гришка невольно залюбовался – в её движениях ничего нельзя было угадать (просторная рубаха скрывала почти всё), но завораживало же!
Над костром комарино-тонко запищал медный котелок, вода в нем подёрнулась рябью, в огне защёлкали-застреляли сухие веточки. Вылетел из огня горячий кусочек коры, пролетел рядом с Маруськиной головой. Девчонка вздрогнула, подняла глаза и заметила взгляд Гришки.
– Ты чего? – спросила она, краснея.
– Ничего, – усмехнулся мальчишка, отводя глаза. И неожиданно брякнул. – Красивая ты.
– Иди ты! – Маруська окончательно покраснела, отвернулась и вскочила, опять одёргивая подол. Ушла к костру, твёрдо ступая босыми ногами по молодой траве, прошлогодней хвое, песку и камням. Стояла у огня, глядя куда-то за речку, на медноствольный частокол сосняка, и даже спина её выражала презрение.
Шепелёв вздохнул и тоже отвернулся. И чего его в язык ужалило? Вырвалось, словно само собой.
Ладно. Слово не воробей, вылетело – не поймаешь, жалей – не жалей.
Совсем рядом, у самого уха, громогласно и насмешливо фыркнул конь, и Гришка от неожиданности подскочил на месте. Обернулся – Шурка наезжал на него конской грудью, весело скалил зубы, цепко сидя на конской спине, гладил отцовского мерина по мягкой шёрстке, трепал гриву.
– Не спи, боярин! – и проехал мимо, едва не оттоптав Гришке ноги конём.
Боярином Шурка иногда звал друга в насмешку, но Гришка не обижался. В этом Шуркином «боярине» не было и на крупицу той злой и обидной насмешки, которую выплюнул в его сторону Молчанов со словом «барчук». Да и чего обижаться-то? Сам виноват, нечего было рассказывать, что пращур боярином был на Москве. Когда это было-то? Ещё до Ивана Грозного, небось.
Историю Гришка до недавнего времени себе представлял слабо. До тех пор, пока отец два года назад не привёз из Москвы первый том Карамзина. Гришка взял его в руки больше из любопытства, – хотелось чего-то почитать, а времени было – хоть ложкой ешь. Отец его наказал за то, что с деревенскими мальчишками у купца Быкова в Новотроицке сад обтрясли, не выпускал из дому. И чего было с тех яблок?! – вечно не дозревали за короткое лето, кислыми шли в компоты и варенья! Чужое всегда слаще! А краденое – и вовсе мёд!
Отец, узнав, что дворянский отпрыск тряс яблоки наравне с холопскими детьми, рассвирепел. Отпрыска выпороли как следует, отец даже и мачеху слушать не стал, хотя прежде она не раз спасала пасынка от порки. Потом отпрыска отец запер дома и любимых Бёрнса с Эксквемелином отнял. Тогда и занесло любопытного дворянского сына к отцу в кабинет. Гришка открыл первую страницу незнакомой книги, прочитал несколько страниц – и ухнул с головой в давнее прошлое России.
Второй том он едва дождался, за дверью стоял и ныл, ждал, пока отец дочитает. Третий успел схватить раньше отца и не отдал, пока не прочёл весь. Так и пошло́. Даже Эксквемелин на время был забыт. Отец только посмеивался. И привозил новые книги.
Сейчас Гришка дочитывал уже восьмой том – как раз об Иване свет Васильевиче Грозном. Ходили слухи, что есть где-то и девятый, а в скором времени выйдет и десятый – так передавали отцу досужие приказчики из уфимского книжарного магазина – ценили прилежного плательщика и постоянного покупателя.
Гришка усмехнулся, предвкушая, как усядется вечером дома за книгу – перебирать дворцовые интриги Шуйских и Глинских. Похлопал по шее отцовского каракового орловца Боя – пока раздумывал про Карамзина и Ивана Грозного, успел найти в тумане своего коня. Злобный жеребец дико косился лиловым взглядом выкаченного глаза и норовил укусить.
– Но-но, зараза! – процедил Гришка тоже злобно. Досада на Маруську и на себя (на себя-то в первую очередь!), всё ещё не прошла. Сунул Бою кулаком в морду, тот всхрапнул и попятился, но мальчишка уже прыгнул с земли прямо на конскую спину – не пренебрегал Гришка ни военными упражнениями, ни конными. Бой взвился на дыбы и, прыгнув с места на три сажени, взял в карьер, промчался мимо шарахнувшейся Маруськи – только комья земли и дёрна летели из-под кованых копыт.
– Дурак! – выкрикнула вслед девчонка со слезами в голосе. Не коню, понятно, крикнула, а всаднику. Но Гришка её уже почти не слышал – изо всех сил старался удержаться на конской спине.
Пролетел как буря мимо Шурки.
Другие мальчишки, которые тоже гнали коней поить и купаться, только завистливо кричали и свистели сзади. Да оно и понятно – разве ж угонишься на крестьянской коняке за орловцем?
Вымахнул на высокий глинистый яр над омутом, промчался по самой кромке – позади с шорохом осыпались по обрыву в воду комья глины.
Ссыпался на пологому склону на поросшую густой травой пойменную луговину.
И прыгнул в речку с берегового изгиба – с грохотом встали по сторонам от всадника стены мутновато-зелёной речной воды – мутен Бирь, мутен! Конь стал как вкопанный посреди взбаламученной воды, и мутные вспененные потоки обтекали его ноги с двух сторон. А Гришка только сейчас понял, что чудом удержался на мокрой конской спине, и что до боли в пальцах сжимает и тянет сыромятные поводья, украшенные узорной медью.
Бой покосился на него выпуклым, налитым кровью глазом, фыркнул, роняя в воду с удил клочья пены, словно сказал: «Радуйся, что жив, двуногий».
Радуюсь!
Гришка равно рассмеялся, сполз со спины Боя, рухнул выше колен в воду. Ноги едва держали, пальцы мелко подрагивали.
И впрямь дурак.
Он зачерпнул воду полными горстями, плеснул на шею довольно фыркнувшему коню, и принялся растирать воду.
Подскакал к берегу Шурка, остановил мерина у берегового среза – конь немедленно потянулся к воде, принюхиваясь и брезгливо отвешивая мохнатую губу.
– Живой?! – с облегчением крикнул Шурка. Эва, даже и боярином позабыл обозвать, – отметил про себя с ядом Гришка, коротко и зло рассмеялся и крикнул в ответ:
– Еле-еле душа в теле!
А кто-то ехидный, тот, кто совсем недавно шептал ему в душу про барчука и его подхалимство, сказал за спиной вредным Савкиным голосом: «Радуется ворёнок, что не разбил барчук голову, что отвечать не придётся за него, ни спиной, ни головой!». И Шепелёв с усилием задавил в себе ехидную мысль.
Нечего.
Подскакали остальные, весело прыгали в воду, скакали вокруг двух вожаков, расплескивая мутные волны и распугивая карасей и раков.
Каждый норовил подойти к Гришке поближе и восхищённо сказать: «Ну ты даёшь!» или «Ну и зверь он у вас!», а то и процедить сквозь зубы: «С таких-то животов можно таких коней покупать да гонять». Впрочем, последнего не сказал никто, просто Гришке Шепелёва опять послышался Савкин голос – ленивый и чуть гнусавый, с врединкой.
– Ты чего опять задумался? – спросил Шурка, подбредая к другу выше колен в воде. И Гришка честно ответил:
– Про Савку думаю. Зря обидели человека.
Шурка помолчал несколько мгновений, глядя в сторону и грызя сухую травинку, – словно думал, сказать ли Гришке что-то или всё же промолчать.
– Ничего не зря, – выговорил он, наконец, лениво. – Давно пора было этого наушника отвадить. Это ж он нас продал тогда, с быковским садом…
– Иди ты! – не поверил Гришка. – Он же сам там был!
– Вот тебе и «иди ты», – пожал плечами Шурка. – Его отец с Быковым – дружки. Оба мироеды, резоимцы.
– Так ведь это ж два года назад было, – заикнулся было Гришка, но друг только шевельнул желваками на челюсти.
– За ним и иные грехи есть, посвежее, – упрямо бросил он и тут же сказал тихо, глядя Шепелёва за спину. – После расскажу, какие.
Гришка обернулся. На берегу стояла Маруська и смотрела на них синими бездонными глазами поверх редкой россыпи бледных конопушек на носу. Близко стояла, в паре сажен всего.
– А… – неосмотрительно заикнулся Шепелёв и почти тут же понял, о чём хотел сказать Шурка. Без сестры. И выговорил разозлённо, с ясной угрозой. – Ну, фискал…
– Вот именно, – бросил Шурка хмуро.
Вот именно.
Фискал и завистник Савка Молчанов. И Маруська, Шуркина сестра. Внучка «вора», дочь и сестра «ворёнка» (так кликали в Новотроицке Плотниковых), у которой как раз в последний год на теле появились соблазнительные женские округлости – он, Гришка, не раз отводил глаза, краснея и сглатывая. А он вот, Савка, видно, глаз не отводил. Да и рук, похоже, тоже…
Кулаки у Гришки потяжелели, словно базарные гири.
Маруська несколько мгновений смотрела на них, потом, видимо, что-то поняв, закусила губу, побледнела. В глазах медленно набухли две крупные слезинки, потом девчонка резко повернулась – только коса взлетела выше головы, да сарафан взвился.
Ушла.
Мальчишки смущённо переглянулись. Потом Шурка, словно что-то вспомнив, резко нахмурился и вдруг сказал:
– Ты, Гриш, тоже… поосторожнее бы с ней.
Гришка поднял брови, сначала не поняв, потом вдруг понял. К щекам прихлынула кровь.
– Я… – хрипло сказал он и закашлялся, отводя глаза.
– Вот именно, – опять сказал Шурка с горечью. – В одном этот говнюк Савка прав. Ты – барин. А мы – холопы. Хоть мы с тобой и друзья.
Гришка хотел что-то сказать, – язык не поворачивается, стал вдруг толстым и неуклюжим. И слова все разом куда-то исчезли.
– Она привяжется, а потом? – сказал Шурка, глядя в сторону. – Ты в офицеры пойдёшь, а она? В омут головой? Или замуж по указке барской?
Гришка молчал. Во рту стоял привкус горечи, словно не юшку рыбную варили вчера на костре, а полынный настой.
Шурка был прав. Она – холопка, а он – дворянин.
Барчук.
3
В Новотроицке звонили колокола.
Звучно ударяли главные, выводили бронзовые переливы, а за ними спешили, части́ли подголоски поменьше.
Гришка на мгновение замедлил бег коня (Бой недовольно захрапел в ответ на натянутые поводья – привык быть а табуне главным!), соображая, с чего бы такой перезвон и почти тут же вспомнил – Троица же! Престольный праздник.
И сейчас же вспомнил и иное – раз престольный, значит, и отец тоже в церкви. И не один…
Враз расхотелось ехать в село. Может, взять правее и – между Верхней и Нижней улицами, вдоль поросших тальником, ивняком и черёмухой берега Биря – сразу к дому, на задний двор?! Но пока он прикидывал, да выгадывал, его настиг Плотников. За Шуркиной спиной на конском крупе сидела Маруська – надутая, девчонка не смотрела в его сторону.
– Чего столбеешь?! – задорно крикнул было Шурка, но Бой, поняв, что его обгоняют, решил за хозяина и наддал, вынося его в гору мимо церкви, прямо к самой паперти, запруженной народом. Гришка еле успел натянуть поводья и остановиться, пока Бой ни на кого не налетел грудью. Остальные мальчишки подскакали тоже. Маруська тут же соскользнула с крупа и скрылась в толпе – должно быть, мать искать побежала.
Шепелёв быстро окинул взглядом толпу – парни и девчата, женатая молодёжь стояли там и сям кучками по всей площади. В деревянных рядках, построенных нарочно для базарных дней и ярмарок уже раскидывали товар и угощения, у самой церкви девушки с песнями завивали берёзку. Около паперти стояли несколько колясок, Гришка с лёгкой тоской признал и отцовскую – английскую, с подпружиненными рессорами, полированного ореха да карельской берёзы.
Но удрать мысли уже не было. Да и что с того удиранья? Отец все равно домой после литургии приедет, а с ним, небось, и казачий атаман, и архиерей с губернатором… как бы и вовсе потом берёзовой каши не отведать, если отец заметит, что Гришка не был в церкви.
Впрочем, берёзовой каши он не боялся. Не из таковских. Но и на скандал лишний раз нарываться не хотелось.
Как назло, литургия закончилась как раз к тому времени, когда они подъехали к церкви, и на паперть повалил народ. Крестьянские ребята торопливо вели коней домой, а Гришка – а, плевать, будь что будет! – остался. Тем более, что удирать всё равно было поздно.
Первой на паперть вышла мачеха. Как назло.
Гришка встретился взглядом с её прозрачно-зелёными глазами и тут же увидел себя словно со стороны – холщовая, едва подрубленная рубаха, потрёпанная отцовская шинель внакидку, старые плисовые порты, босые запылённые ноги, сбитые о камни, в цыпках и мозолях, давно не стриженная вихрастая голова, загорелое лицо, через плечо – холщовая торба. Не то сын зажиточного крестьянина, не то небогатого купца. Никак не скажешь, что дворянин.
– Фи дон, Грегуар, – мелодично пропела-прозвенела она. – Как вы выглядите? Сегодня же праздник, в конце концов…
Она очень хорошо, очень чисто говорила по-русски, эта змея, что свела мать в могилу.
Гришка закусил губу, стараясь глядеть в сторону. Сердится, что я с крестьянскими ребятами дружу, – злобно подумал он, накручивая сам себя и понимая, что это совсем не так, и мачеха действительно расстроена из-за его внешнего вида в праздник – она очень быстро усвоила русские обычаи и научилась праздновать русские праздники. Приняла душой. Искренне. Видимо, и в самом деле любила отца.
– Я… – он отчаянно надеялся, что голос его сейчас не дрожит и не срывается. – Я просто не успел, мадам Изольда.
Он поднял голову и снова встретился с ней глазами, постаравшись влить в свой взгляд достаточно ненависти. И почти тут же увидел Жоржа – опрятного, причесанного, в тёмно-зелёном сюртуке и таком же цилиндре. Младший брат скорчил ему рожу из-за спины Изольды. Ну конечно. Это ведь ему, Гришке, Изольда – мачеха, а Жоржу и Анютке, Аннет, как её звали дома все, кроме Гришки, она – родная мать.
Гришка незаметно для мачехи показал Жоржу кулак. Но она заметила, и тут же обернулась. Жорж уже выглядел благопристойно, но мадам Изольда, конечно же, всё поняла.
– Дети, дети, – укоризненно вздохнула она, глядя попеременно то на Гришку, то на Жоржа. – Не к лицу вам ссориться. Тем более, на виду у всех людей.
Гришка скрипнул зубами. Сказал бы я тебе, фифа французская, – мстительно подумал он, хотя и сам себе не смог бы внятно объяснить – а что именно он сказал бы мачехе?