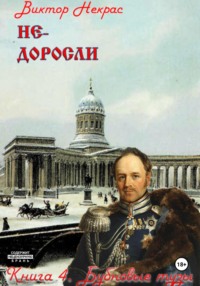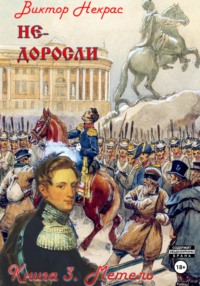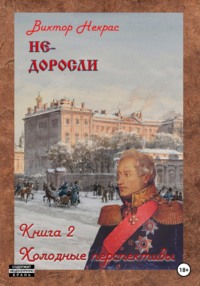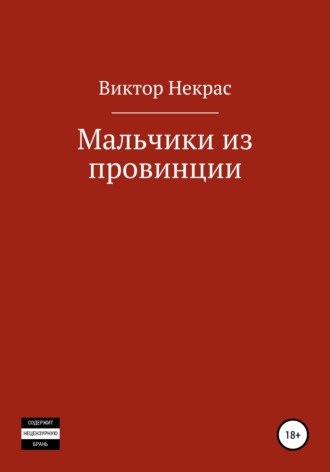
Полная версия
Мальчики из провинции

Виктор Некрас
Мальчики из провинции
Недоросль – молодой дворянин, не достигший совершеннолетия и не поступивший еще на государственную службу.
«Толковый словарь русского языка»
под редакцией Д.Н. Ушакова
Светлой памяти Валентина Саввича Пикуля.
Детям вечно досаден их возраст и быт,
И дрались мы до ссадин, до смертных обид
Владимир ВЫСОЦКИЙ
Глава 1. Обводный канал
1
Рано или поздно везение заканчивается.
Всегда.
Влас Смолятин осознал это в полной мере приблизительно к полудню. Точнее он сказать или решить не мог – часов у него не было. Не по чину было пока что четырнадцатилетнему мальчишке из Онеги, пусть даже и офицерскому сыну, иметь часы. Рылом не вышел-с, – процедил он про себя, утирая со лба пот, смешанный с уличной питерской пылью. С ненавистью глянул на низкий берег Обводного канала, на застойную, подёрнутую едва заметной зеленью воду и в очередной раз недобрым словом помянул (опять же про себя) причуду матери, из-за которой он вот уже битых три часа бродил в этих местах. И твёрдо пообещал себе, что сразу же, как только выйдет в офицеры (ну или хотя бы в гардемарины), купит себе часы. Серебряные. С цепочкой и репетиром. Хотя как ему сейчас могли бы помочь часы – он решительно не представлял.
Наконец, завидев перекинутый через канал мост, – низкий, с каменными обелисками, Влас досадливо плюнул в пыль, поставил изрядно оттянувший руку рундук прямо на дорогу и уселся на него, закинув ногу на ногу. Ноги гудели, как чугунные опоры моста через Двину в непогоду – доводилось слышать. Рядом с мостом вытянулось длинная кирпичная постройка, окружённая таким же кирпичным низким забором. Где-то за этим забором заливисто ржали кони, лаяли собаки. А прямо от моста, мимо этого забора, протянулась на север прямая как стрела, улица, застроенная небольшими домами за глухими дощатыми заборами.
Да, закончилось везение.
А кто виноват?
Сам.
Мать же велела ехать на почтовых – быстрее, да и вернее. Через Холмогоры, Каргополь, Вытегру, Лодейное поле и Шлиссельбург, как все нормальные люди ездят. А только он же сам с усами (без усов пока что, без усов!), решил добираться оказиями, испытать удачу.
Самостоятельным стать.
Добраться Осударевой дорогой, что пращур Аникей когда-то строил, при государе Петре Алексеевиче, с рыбным обозом. Как Михайла Васильевич, гордость поморская, когда-то. Только Ломоносов-то поумнее тебя был, – язвительно сказал себе Влас. Он, небось, зимой добирался, с мороженой треской, да не в Питер, а в Москву. Не по «Осударевой дороге», а Двиной. И тебе что мешало так же? Водой-то да почтовыми? Не восемнадцатый век на дворе.
Дурь мешала, вестимо.
Да прадедова слава покоя не давала. Волокли же когда-то Аникей Смолятин да Иван Седунов фрегаты через карельские леса с Белого моря к Балтике, а он, Влас, неужели пешком не пройдёт? Благоразумие, правда, гаденько шептало в уши, что пращурам было отнюдь не по четырнадцать, но какой мальчишка слушается этого благоразумия? Известно, оно – друг трусов и их благопристойная машкера1. Поэтому Влас поспешно велел ему заткнуться. Ещё и потому, что в глубине души понимал – ещё чуть-чуть, и он испугается и послушает его.
И кинулся, очертя голову, навстречу приключениям.
Впрочем, жаловаться было – грех. Тресковый обоз (надолго пропах теперь вяленой рыбой и кафтан, и он сам, Влас Смолятин… хотя – привыкать, что ли?) шёл от Онеги к Повенцу почти не задерживаясь, и Смолятину даже несколько дней удавалось ехать на телеге, а не всё время идти пешком. Исхудал и устал, это вот да. В Повенце рыбу перегрузили на баржу, и мальчишка той же баржей добрался и до города на Неве.
Везло ему.
Всю дорогу везло, это Смолятин сейчас понимал отчётливо. Дальняя дорога случайных решений и случайных людей не терпит. Множество раз за дорогу его могли и ограбить, и бросить, мог ноги стереть, ослабнуть, заболеть…
Повезло.
Ни случилось ни первого, ни второго. Ничего худого не случилось. Попутчики попались хорошие.
Прознают вот родители – что-то будет… Впрочем, матери про такое знать и вовсе незачем. А отец… отец может даже и похвалит. Брату вот рассказать надо будет обязательно. Если доведётся увидеться.
Влас вдруг отчётливо представил, как Аникей, названный по знаменитому пращуру, будет слушать, красиво изогнув светло-русую бровь, хмыкать весело, пыхать трубкой, а в конце скажет что-нибудь насмешливое. Может быть, тоже похвалит. Это было даже более вероятно – Аникей старше него, Власа, всего на восемь лет, и лучше должен понять мальчишку – сам таким не так давно был.
Но пока что до встречи с братом далековато.
От пристани на Обводном канале, где баржа стала на разгрузку, Влас пошёл вдоль по набережной, спросив у дрягилей2 дорогу. Но то ли они сами плохо знали город, то ль решили подшутить над мальчишкой, а только он шёл уже половину дня, а нужный дом всё не находился.
Закончилось везение.
Влас опять сплюнул в пыль. Будь он повзрослее, да будь у него трубка – непременно закурил бы с досады.
Кабы ещё знать, куда его занесло! А то так и будешь бродить по чужому городу, пока не свалишься. И спросить не у кого – улицы словно вымерли.
Чума тут у них, что ли? – вскользь подумал Влас и тут же постучал костяшками пальцев по рундуку – не накличь, дурило!
Дорога, переходя мост через канал, на этой стороне постепенно становилась улицей. Влас понимал, что он по-прежнему где-то на окраине столицы, но по-прежнему же совершенно не там, где нужно. По дороге и улице изредка проносились кареты, но ведь не бросишься останавливать да спрашивать дорогу – можно и кнутом от кучера отхватить.
И в этот миг Влас увидел их.
Их было пятеро.
Они приближались вразвалку, неспешно взбивая пыль широченными обрясенными краями балахонистых штанов, вместе с тем вполне грамотно охватывая его полумесяцем. Влас глянул исподлобья, все еще медля подняться с рундука, окованная железными полосами дубовая крышка которого, твердая и угловатая, вдруг стала казаться такой удобной и мягкой. Глянул – и зубы заныли от предчувствия чего-то нехорошего. Глядели они в точности как холмогорский оболтус Сашко Цып, тогда, на двинском льду, перед тем, как ловко садануть его, Власа, своим любимым ударом между глаз, вопреки всем правилам стеношного боя.
Не вышло садануть.
Смолятин невольно усмехнулся, вспомнив, как Цып скорчился от его, Власова, вроде бы и незаметного тычка под ложечку. Ишь… больше полугода прошло, а до сих пор вспомнить приятно.
Однако, надо было вставать. Как бы за труса не приняли.
Смолятин плавно (не делать резких движений, не пороть горячку! – кто горячится, тот проигрывает!) поднялся с рундука, стараясь одновременно унять бешеный стук сердца и твердо стать на обмякшие вдруг до ватного состояния ноги.
Они подходили.
В середине – рослый парень, но видно, что вряд ли намного старше Власа. Идет подбоченясь, пряча руки в лохмотья когда-то дорогого, должно быть, а теперь изменившегося до неузнаваемости сюртука с чужого плеча. По лохмотьям даже не было видно, какого цвета был сюртук – понятно было только, что какой-то из оттенков зелёного. Сбитые о питерские мостовые босые и грязные ноги в цыпках лениво загребали пыль, пылью же было покрыто и конопатое лицо, и вихрастая, словно никогда не чесаная голова. На поясе – кривой матросский нож, видно, достался от кого из сгинувшей в море родни. Рассечённая бровь, нос, свёрнутый набок в уличных драках.
По обе стороны от атамана – по двое ребят поменьше в таких же лохмотьях, но без того шика, что у среднего.
И в последний миг из-за спины атамана выскочил шестой – совсем мальчишка еще, лет семи-восьми, в длинной рубахе с остатками вышивки на ворота, рукавах и подоле (когда-то чья-то праздничная была, небось, крашеная) и без штанов. А к чему они в такую жару да при такой рубахе длинной?
И это знакомо.
Сейчас этот мелкий щегол, малышка, затеет ссору, а потом влезут и остальные.
Подошли, остановились.
Не пятеро. Шестеро.
Атаман смерил Власа взглядом с головы до ног, вынул изо рта дорогую даже на вид, изящно изогнутую трубку (настоящий английский «бент», из крымского бриара точённый, чтобы вы понимали! небось долго сокрушался по трубке зевака, у которого атаман её увёл) и рассчитанно выпустил сквозь зубы длинный плевок. Слюна равнодушно свернулась в пыли невдали от ног Смолятина.
Время остановилось.
Звенело в ушах.
– Ишь, какого красавца в наши края забросило, – процедил атаман наконец, разглядывая Власа, словно заморское диво и вместе с тем так, что Смолятин вдруг ощутил себя одетым не в сюртук, пусть и грубого дорожного сукна, а в обычную рыбацкую одежду, может быть, даже и испачканную рыбьей чешуёй и кишками – высокие нерпичьи бродни, рокан, парусиновые буксы да куколь. – И откуда только взялся на нашей земле? С таким роскошным тресковым запахом…
Влас молчал, лихорадочно бегая глазами от одного к другому и прикидывая, когда же начнётся. Но мальчишки не спешили.
– Яш, глянь… – сказал мелкий, кивая на рундук Смолятина. Влас сжал зубы – понятно было, к чему они прицепится в первую очередь.
Рундук у Власа был знатный.
Отцов подарок.
Настоящий матросский, плотно собранный из остатков корабельной обшивки, с крышкой под смолёной парусиной, окованный по углам медью, с протравленным кислотой узором. А по олифленому дереву – рисунки чернилами, карандашом, выжженные калёным железом. Нептун с длинной бородой и тяжёлым трезубцем в руке. Русалка в морской пене – каждая чешуйка на хвосте видна и соски в стороны торчат так, что в ладонях зудит. Голова американского адмирала Пола Джонса, который против англичан бился, а потом, при Потёмкине, на Чёрном море турецкие корабли жёг. Морской дьявол, с рогами и клыками, косматый и чешуйчатый.
Рундук отец выкупил у родни погибшего матроса, нарочно, чтоб Власу подарить.
– Ого, – сказал атаман и выгнул рассеченную когда-то бровь, приглядываясь к рундуку. Бросил через плечо, ни к кому в отдельности не обращаясь. – Не хватать, лапы оборву. И зачем этой сухопутной крысе, трескоеду, такой сундук?
– Не сундук, а рундук, деревня, – презрительно сказал, наконец, Влас, отлично понимая, что именно этого от него и ждут. – Ты и сам сухопутная крыса пока что.
– Это кто крыса? – нешуточно оскорбился атаман. – Это я, Яшка-с-трубкой, сухопутная крыса?!
– А то кто ж! – бросил в ответ Влас, собираясь в комок и понимая – вот сейчас!
– Ну, держись! – звонко выкрикнул малышка, вмиг оказываясь перед Смолятиным, подпрыгнул, пытаясь достать до лица помора.
Не достал. Влас встретил его коротким тычком, сразу отбросив на шаг назад: хотели повода? – нате вам!
– Бей трескоеда!! – ожидаемо-радостно заорали все шестеро и ринулись к Смолятину.
2
Звонко затрубил рожок и почти сразу же вслед за ним глухой, прокуренный голос кучера возгласил:
– Санкт-Петербург, господа! Подъезжаем!
Гришка Шепелёв протёр глаза, прогоняя дрёму. Умыться бы сейчас, чтоб сон окончательно пропал! А то и голова тяжёлая, и во рту вкус, будто медный пятак под языком держал. Что бы там ни писал в своё время в наказах путешествующим государь Пётр Алексеевич, чтобы спали в дороге, а на месте делами государскими занимались, а только в дороге и сон не в сон. И трясёт, и мотает туда-сюда, и не прилечь, и даже не сесть удобно. Какой уж там отдых!
Гришка мотнул головой, потёр лицо ладонями. Только что ему казалось, что он – дома, в своём небольшом мезонине, на полу валяется толстый том Эксквемелина, а то, что постель качается, так это и понятно – море приснилось, что ещё могло присниться после Эксквемелина-то? А вредный братец Жоржик крадётся от дверей с полным ковшом воды, собирается вылить его на спящего Гришку, и мачеха вот-вот закричит-запоёт с первого этажа: «Грегуар! Жорж! Аннет! Пора завтракать!». А деревенские приятели уже ждут его в кустах сирени в саду – сегодня собирались на рыбалку, потом – вороньи гнезда зорить, потом – за ягодами, а там и в ночное… всё разве переделаешь?! А тут вот – на тебе! Петербург!
Шепелёв досадливо поморщился. Нечего сожалеть о том, что осталось в прошлом! Не о том ли ты и мечтал, Грегуар? (впрочем, это имя тоже осталось в прошлом – он на это надеялся).
Дилижанс качнуло на ухабе, за окном послышались голоса, кто-то визгливо бранился, кто-то хмуро ворчал, лаяли собаки.
– Пирожки горячие! С пылу, с жару! – донёсся голос тонкий голос уличной торговки. – С рубцом, с яйцом, с капустой!
– Яблочки, первые яблочки! В дорожку – первое дело!
– Сбитень, сбитень! С вечера варён, ночь на леднике стужён!
– А молочка горячего! А молочка холодного!
И правда, что ль, город близко?! Гришка придвинулся ближе к окну. Ещё на выезде из Москвы другие пассажиры, переглянувшись, дружно уступили мальчишке место у окна – летом не продует, а за окно поглядеть на новые места – кто ж в четырнадцать-то лет от такого откажется. Сами же уселись понтировать – а что еще делать в такой долгой дороге? Книги читать, вино пить, спать да в карты играть! Иных занятий в дороге нет!
Гришка высунул голову в отворённое оконце, огляделся. Позади пылил длиннющий обоз из двух десятков крестьянских возов с сеном. Петербург – город большой, и в нём много не только людей, но и лошадей. Потому и сено в город привозят каждый день, и враз – помногу. Впереди высились два гранёных столба, блестела под ярким июльским солнцем вода то ли в речушке, то ли в канаве. А за ней подымались кирпичные и оштукатуренные стены домов, крытые тёсом и черепицей кровли и высокие, плотно сколоченные из старых, потемнелых от времени досок заборы.
Пожалуй, и впрямь Питер. Ну да не станет же кучер врать, да и ошибиться тоже не должен.
– Что там, Гриша? – спросили за спиной. Шепелёв обернулся и встретился взглядом с соседом, тем, что давеча в Москве первым предложил ему место у окна – невысокий, смуглый и носатый, слегка обезьянистого вида, с черными кудрями и весёлым взглядом голубых глаз. Сосед, встретившись с ним взглядом, взлохматил бакенбарды.
– Что видишь-то? – полюбопытствовал он. – Заставу? Обводный канал?
– Должно быть, да, Александр Сергеич, – с лёгким неудобством провинциала ответил Гришка (познакомились они ещё в Москве). Он коротко описал то, что видел, и сосед кивнул.
– Застава и есть. Скоро уже доберёмся, – он шевельнулся, разминаясь – видно было, что и ему прискучило всё время сидеть на месте и хотелось либо походить, либо полежать.
– А куда в Питере приходят дилижансы, Александр Сергеич? – спросил Шепелёв, спохватясь – надо ж было ещё узнать, далее ль ему до места добираться. Он вновь покосился в окно, облокотясь на взятый в дорогу ранец. Твердая вощеная кожа ранца послушно чуть подалась под рукой – внутри почти ничего не было, смена белья, чулки, пара сухарей, да любимые Эсквемелин, Карамзин и Бёрнс. Французский солдатский ранец отец привёз с войны в пятнадцатом году, когда ему, Гришке, было только пять лет. Вместе с мачехой привёз, да. Гришка, как подрос, немедленно наложил на ранец лапу – впервой взял его с собой как дорожную сумку, когда в Табынск ездили на богомолье, семь лет назад. Отец посмеялся, да и махнул рукой – пусть-де. Так и таскал его в дороги повсюду, и в Питер уезжая, с собой прихватил. В дороге много вещей – только докука.
– К Исаакиевской площади приходят, на Малую Морскую, – словоохотливо ответил Александр Сергеевич. – Там тебе до твоего корпуса два шага пешком.
Сосед уже знал, куда едет мальчишка – Шепелёв в разговоре не стал скрывать. К чему? Никакой выгоды, будь даже смуглый жуликом, ему нет с того знания, что мальчишка-попутчик едет поступать в Морской кадетский корпус. Обокрасть – так и без этого можно. Да и что у него, Гришки Шепелёва, красть? Последний рубль, который не успел в дороге проесть? Отец, провожая в Москве, наказывал: «Не трать всё сразу!», а отца Гришка привык слушать, хотя и не всегда слушался. Но мелкие жулики, чтоб на его копейки позарились, в дилижансах от «Москва – Питер» и не ездят особо – билет стоит дороже, чем возможная добыча. Проще на Хитровке или Лиговке (названия эти Гришка знал по рассказам отца, бывавшего во времена оны в обеих столицах) потолкаться да кошелёк-другой срезать.
Дилижанс застучал колесами по мостовым булыгам, его качнуло в одну сторону, в другую, крики придорожных торговок притихли. Въезжали в столицу. Гришка прислушался к себе, честно пытаясь ощутить в глубине души трепет – как-никак, сам Петербург за окном. Но трепета отчего-то не было.
А сосед глядел мимо него в окно и отчего-то улыбался. Должно быть, рад был, что вернулся домой. Он вдруг нараспев произнёс:
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье
Береговой её гранит…
Он покосился на Гришку и усмехнулся, заметив, что Шепелёв криво улыбается:
– Что, не похоже?
Мальчишка мотнул головой, но сосед только весело хлопнул его по плечу:
– Ничего, брат, это тут, на Обводном, пока что не похоже, а вот в центре, на Васильевском или у Летнего сада. Да, впрочем, сам увидишь…
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла…
– Всё увидишь, – повторил он задумчиво. Так, словно самому ему это увидеть не придётся.
– Вам, петербуржцу, виднее, – чуть повеселел Шепелёв. – Вы всегда здесь жили…
– Да нет, Гриш, родом я не отсюда, московский я, – улыбнулся сосед. – А тут… тут я почти четыре года не был. И теперь не задержусь. Пересяду – и на почтовых в Псков.
– Но почему?! – с недоумением и даже обидой спросил Гришка, но смуглый попутчик глухо и даже как-то угрюмо ответил:
– Так надо, – и отвернулся. Похоже, настроение ему Гришка всё-таки испортил.
Мост закончился (пропал низкий каменный парапет за окном), надвинулся ближе забор. Дилижанс вдруг остановился – должно быть, на заставе зачем-то кого-то остановили, загородив дорогу. Гришка снова с любопытством высунулся в окно.
Они стояли у самого канала, едва съехав с моста, и мутная застойная вода едва заметно тянулась между низких каменных берегов, проплывали клочья сена, щепки, разный мусор, кое-где и коричнево-рыжие яблоки конского навоза. Купаться в этом канале – увольте, – с внезапно прорезавшейся неприязнью подумал Гришка и поглядел вперёд.
Да, впереди уже была не пыльная просёлочная дорога, как до того, а булыжная мостовая, такая же, какую Гришка видывал раньше в других городах – в Бирске, Уфе, Москве. Мало где бывал. Только немного иная – посреди дороги камни тщательнее отёсаны, угловатые и тесно прилегают друг к другу, с краёв – больше неровных, небрежно вложенных. Видно было, что эту улицу замостили камнем не так давно.
У двух гранёных столбов впереди, тех, что он разглядел ещё из-за канала, стояла карета с гербом – не разглядеть, что за герб. Да и не силён был Гришка в геральдике – его учитель, отцов товарищ по службе, отставной офицер и мизантроп, Андрей Иванович Хохлов, не раз, бывало, говорил: «Вы, Григорий, согласны променять все дворянские гербы на полный набор парусов и даже жалеть об этом не станете». Гришка обычно отмалчивался, но в глубине души был согласен: «Конечно, не стану! Сдались те гербы!». Но попробуй вслух скажи! Сразу субботние посеканции обеспечены. И отец, и Хохлов твердо чтили правило «Домостроя»: «Возлюбивший сына своего, да сокрушит рёбра ему!». И с розгами Гришка был знаком хорошо.
Около кареты стоял солдат в зелёном, даже отсюда было видно, что запылённом мундире (оно и понятно, за день мимо него может, сотни полторы карет, да с полтысячи возов проедет, сколько пыли осядет). Стоял и препирался о чём-то с кучером.
Гришка несколько мгновений разглядывал их, потом, наскучив, перевел взгляд правее. Там и впрямь было интереснее. В нескольких шагах от заставы, у самого берега канала, одетого в камень, сидел на сундуке парень… нет, не парень – мальчишка! Его, Шепелёва, ровесник, пожалуй. Даже и одет так же – просто и удобно, в самый раз для дороги. Опрятный, хоть и простой сюртук серого некрашеного сукна, дорожные сапоги, лихо, чуть набок посаженная шляпа. Вот только смотрит – Шепелёв и отсюда видел его выражение лица – чуть сумрачно.
А от ближайших заборов к нему вразвалочку шли пятеро оборванцев того же возраста – то ль по двенадцать им лет, то ль по пятнадцать. Ровесники, в общем. А нет, не пятеро – шестеро! За спиной самого рослого постился ещё один, маленький, лет восьми.
Дело было ясно, как день. Зашел приличный парень, чужак, может даже и иногородний, на чужую землю… без синяков не уйти. А то и от добра часть оставить придётся.
Обычное дело.
Мальчишка с сундуком оборванцев заметил тоже, и теперь медленно подымался им навстречу, словно бы нехотя выпрямляясь. Вместе с тем – Гришка мог бы поклясться в том! немало драк повидал! – в этом, с сундуком, не было ни капли страха или растерянности. Он отлично понимал, что его ждёт. И был готов. И бежать не собирался.
Ай да сундучник! – невольно восхитился Шепелёв, невесть с чего весь подобравшись. Словно это не незнакомому мальчишке, а ему предстояло сейчас схватиться с теми шестью.
Впрочем…
В четырнадцать лет да драку пропустить – позорище. А подраться, коль случай выдался – милое дело. Тем более, тут шестеро на одного. Сам бог велел!
Шепелёв вдруг забеспокоился невесть с чего. Так, словно тот мальчишка с сундуком был его родственником. А и то сказать – будь там братец Жоржик, он бы ещё подумал, влезать ли! Пусть бы поучили каналью.
Оборванцы подошли к мальчишке, стали, охватив его полукругом, и в этот миг солдат отошёл от кареты, пропуская. Поднялся шлагбаум, и дилижанс качнулся, трогаясь с места – видно, кучер спешил. Шепелёв же, вспомнив, что все заставы по пути дилижанс проезжал без остановок и проверок, понял, что остановки теперь не будет до самой Исаакиевской площади, до места, вдруг решительно подхватился, даванул на поворотную ручку двери и, ухватив ранец за лямку, почти что вывалился наружу.
– Гриша, куда это ты?! – удивился запоздало за спиной попутчик.
– Я… – Гришка замялся, оборотясь, и не найдя нужных слов, косноязычно сказал. – Надо мне, Александр Сергеевич!
И спрыгнул с подножки в пыль.
3
Дорога выматывает.
Глеб Невзорович несколько раз слышал эти слова от старших, которые ездили часто и много – на казённых, на почтовых, на своих.
Но сам он справедливости этой истины, во время своего путешествия в русскую столицу, не заметил. Дорога как дорога, усталость как усталость.
Впрочем, ехал он в Петербург уже не в первый раз, потому глазеть в окно, словно деревенщина-засельщина, не было нужды. Да и что он там не видал, по правде-то сказать? Те же кривые дороги, что и в родной Литве, те же перелески, те же деревни, рубленые избы, крытые камышом и соломой, а у кого побогаче – тёсом и гонтом, который здесь лемехом зовут. Те же церкви, деревянные и каменные, только католических костёлов всё меньше, а православных всё больше.
А с какого-то мгновения, как переехал межу Псковской губернии, костёлы и вовсе на нет сошли. И за́мки исчезли. Да и православные храмы иными стали. Но всё это Глеб уже видел ранее, во время своих прежних поездок, и потому с чистой совестью большую часть дороги он проспал. Благо ехал не на почтовых, а на своей карете (и даже с гербом, понимать надо!), с кучером, который одновременно был и его камердинером, и дядькой-воспитателем. Можно было, не стесняясь и сесть в карете удобнее, и лечь, а если захочется, то и остановиться – дать отдохнуть коням, да и погулять самому заодно, кости размять.
Не утомила его дорога, грех было жаловаться.
Тяготило другое.
Первое время, как из Волколаты выехал, на душе даже как-то весело было – понимал, что едет навстречу чему-то новому, какой-то иной жизни. А как Полоцк миновали, тут оно и навалилось. Внезапно как-то резко осозналось, что родного дома он не увидит, самое меньшее, год. Тоска забрала резко и даже (чего перед собой-то прикидываться?) слёзы на глаза наворачивались. Он не плакал, нет! Не девчонка! В этом Глеб не признался бы и себе самому! Это сестрёнка, Агнешка, размазывала бабью воду по красивому кукольному лицу. Но ей простительно, она всего лишь девчонка, да к тому же ей всего-то одиннадцать лет недавно исполнилось. А он плакать не может, он – Глеб Невзорович, шляхтич герба Порай, ему уже четырнадцать! А только тяжело было на душе, тянуло обратно, хоть режь, хоть плачь! (Не плакать, не плакать! Нет!).