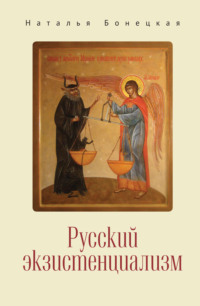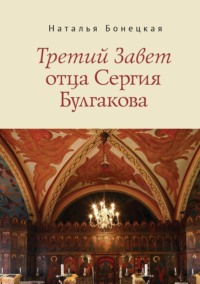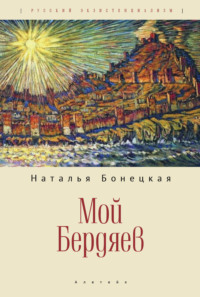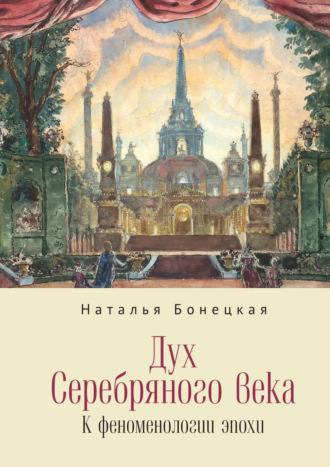
Полная версия
Дух Серебряного века. К феноменологии эпохи
Как же учителю заставить ученика пережить сатори, опытно прикоснуться к бесконечной ценности и глубине отдельного мгновения? Для этого можно даже неожиданно ударить его по голове палкой! Форма тут не важна, и действия учителей дзена нередко шокировали европейцев. Но обыкновенно учителя медленно и планомерно вели учеников по пути к сатори. Для этого применялись так называемые коаны – парадоксальные задачи, имеющие целью расшатать эвклидовское, так сказать, устроение ума ученика, ограничивающее его видение границами трехмерного мира. Коаны развивали в ученике способность видеть мир в совершенно неожиданных, непривычных ракурсах, отрешаясь от обмана повседневности.
Дзен – это в основном практика, а не теория: это методика отстранения от иллюзии бытия в надежде обрести бытие истинное. Метафизика же дзена – это метафизика всеединства; ку (пустота) или му (апофатическое ничто) – первооснова мира (она же – природа Будды, буссин) – порождает все существующее, т. е. иллюзорный мир феноменов. Задача ученика заключается в преодолении царящего в этом мире дуализма – обманчивого противопоставления субъекта и объекта – и осознании своей глубинной причастности целостному бытию. Это и осуществляется в состоянии сатори: «пробудившись», ученик удивительным образом созерцает все мироздание со всеми его элементами, включая и самого себя; парадоксально для эвклидова ума он видит весь мир в себе самом, и себя – в мире. Так происходит освобождение от иллюзии феноменальности; но сатори, опять-таки парадоксальным образом, освобождает монаха от мира, но при этом дает ему пережить нерасторжимое единство с ним.
Интересно, что уже в древности монахи, практикующие дзен, активно занимались изобразительными искусствами и литературой. Под влиянием дзен возник своеобразный эстетический канон, в соответствии с которым мир изображался в движении, представляя собой при этом единство; художественный образ (в том числе и словесный) содержал в себе указание на вселенский смысл. В идеале художник, исповедующий дзен, показывал действительность такой, какой она предстала перед ним в миг просветления – сатори. Образы были динамичны и вместе с тем универсальны: эстетика опиралась на мистику. Иными же словами, художественное творчество – созерцательный путь к совершенному, подлежащему запечатлению образу – как бы выполняло для монаха-художника роль упражнений по разгадыванию коанов, обращало его душевное зрение от сферы феноменов к потоку внутренних образов, к глубинному времени.
Размышляя об этом древнем художестве буддистских монахов, обнаруживаешь его удивительное созвучие эстетике Волошина, намеченной в трактате «Аполлон и мышь»: среди «аполлинийских грез» – потока образов, созерцаемых, по Волошину, внутренним оком художника, какая-то одна «греза», один образ может оказаться пророчеством, светлым окном в действительное бытие. И это не говоря уж практически о тождестве волошинской философии времени представлениям дзен-буддизма: ведь что иное делает учитель дзен, хлопающий палкой по голове ученика, как не хватает за хвост молниеносно убегающего зверька, посвященного Аполлону! Аполлон Мышиный – вот неведомый бог дзен-буддизма, которому, сами не ведая того, служат те, кто задает и решает коаны, имеющие целью переживание сатори. Фигурой Аполлона Волошин как бы восполняет дзен, который сам по себе лишь практика, опирающаяся на слишком просторный – общебуддийский философский фундамент, – восполняет, превращая дзен в теизм.
Итак, трудноуловимая идея трактата «Аполлон и мышь» трудна для нас именно потому, что она принципиально отличается от привычной для европейского сознания, восходящей к Платону мысли о трансцендировании за пределы времени с целью приобщения к вечности: Волошин взял эту идею из арсенала восточной мистики. Действительно, созерцательная жизнь мистика европейского – это непрестанная «мука по где-то там сияющей красе» (И. Анненский), тогда как приверженец дзен, взыскующий сатори, чает обрести и истину здесь и теперь и никакого потустороннего бытия знать не хочет. Налицо два совершенно различных представления о вечности в ее соотношении с временем, две противоположные оценки времени. И теперь нам ясно, что Волошин-мистик хотел бы «пробудиться» для вечности, не выходя из области времени, повседневной жизни, но – сумев дойти до ее последней глубины. Волошин ищет не чуда, но глубинного закона, – и для иллюстрации превосходства закона над чудом он вспоминает в свом трактате сказку о разбитом мышью золотом яичке, взамен которого курочка обещает снести яйцо простое: «Священное царство Аполлона заключено вовсе не в золотом, а в простом яичке», – последнее же – это «вечное возвращение жизни, неиссякаемый источник возрождений»[212]. Не станем обсуждать ницшеанские нюансы так определенной «жизни», – сейчас нам важно, что для Волошина «реальнейшая» жизнь – это жизнь во времени. И мудрость заключена в том, чтобы надлежащим образом устроить эту жизнь, а не уходить от нее: кажется, именно на это был ориентирован жизненный стиль самого Волошина.
Здесь «сюжет» наших размышлений делает новый поворот. Конечно, Волошин был прекрасно знаком непосредственно с буддизмом и, вполне вероятно, – с его японской версией. Но тот факт, что в «Аполлоне и мыши» философия времени дзен представлена в неразрывном единстве с эстетикой, наталкивает на предположение, что особое значение для Волошина имели не собственно дзенские источники, а преломление идей дзен в призме искусства. Что же это за искусство, пронизанное духом дзен? – Разумеется, это живопись импрессионистов, столь важная для становления волошинского мировоззрения. Итак – импрессионизм и дзен в их совместном влиянии на Волошина: вот чему будут посвящены наши дальнейшие рассуждения.
«Япония торжествовала в живописи импрессионистов»[213], – заметил Волошин в 1910 г., примерно в это время происходило формирование его «аполлонической» эстетики. Критики уже «подводили итоги» импрессионизма[214]: импрессионистская школа не только в полной мере выявила заложенные в ее принципах возможности, но и пришла, так сказать, к самосознанию. Волошин знал импрессионистов не понаслышке, хотя и не застал зарождения и расцвета этого движения: живя подолгу в Париже (начиная с 1899 г), он, по его словам, с головой уходил в мир живописи, питался идеями и духовными токами, пронизывающими богемную среду Посвятив множество работ французскому искусству рубежа веков, – набросав, в частности, портреты ряда крупнейших фигур художественного мира, Волошин глубоко осмыслил эстетику импрессионизма (и развивающего его принципы «неореализма»), сведя, как в фокус, свои наблюдения в итоговый теоретический труд – проанализированный нами только что трактат «Аполлон и мышь».
Итак, импрессионизм – и японское искусство и философия: что же между ними общего? Проблема эта хорошо изучена; в частности, и на русском языке по ней существуют обстоятельные и достаточно углубленно написанные труды[215]. Мы затронем этот обширный круг вопросов, разумеется, лишь постольку, поскольку они имеют отношение к эстетике Волошина. Но прежде необходимо сказать несколько слов об истории японского влияния в Европе. Если говорить о Новом времени, то начало его исследователи относят к 1830-м годам, Волошин же связывает это начало с братьями Гонкур, заинтересовавшимися японским искусством в 1850-х. Так или иначе, но уже в 1860-х годах весь Париж, вплоть до мещанок, увлекался Японией, равно как и Китаем.
Возникновение самого импульса импрессионизма Волошин датирует 1871 годом и связывает с полулегендарным случаем: «В тот знаменательный для французского искусства день, когда в маленьком голландском городке Саандаме юный Клод Моне, разворачивая купленный им в лавке кусок сыра, увидел, что он завернут в рисунок, который был первой японской гравюрой, попавшейся ему на глаза, и был так потрясен неожиданным откровением красок, что от радости мог лишь несколько раз воскликнуть “черт побери! черт побери!”, – в этот день импрессионизм родился и стал существовать»[216]. – Примечательно, что само рождение импрессионизма – искусства впечатлений – Волошин возводит к этому впечатлению, которое получил Моне от японского рисунка, – впечатлению, ставшему для него откровением, мгновенным «пробуждением», – одним словом, сатори'. «Нужна была лишь эта маленькая гравюра Корна, изображавшая стадо диких коз, измятая и запачканная голландским сыром, чтобы серая плева сошла с глаз европейской живописи»[217]. Прав или нет Волошин, утверждавший, что импрессионизм возник именно так, – что посвящение Моне в таинство Аполлона Мышиного совершилось именно посредством японской гравюры, случайно послужившей оберточной бумагой в бакалейной лавке, – но вопреки, быть может, истине факта, Волошин передал истину глубинно духовную. Моне мог до того много лет рассматривать японские гравюры, не видя их, не воспринимая посылаемого ими сообщения, – подобно тому как ученик дзен может на протяжении месяцев тупо повторять строчки коана, переживая их как какую-то бессмысленную абракадабру и не более того. Между тем в случае и этого ученика и Моне, казалось бы, их тупое занятие не было бесполезной тратой времени: в душе и Моне, и гипотетического ученика дзен (на самом деле Моне и был таким «учеником», а японские гравюры, с которыми он впервые столкнулся в конце 1850-х годов [218], выполняли для него роль коанов) шла подспудная работа: душа перестраивалась, переориентировалась навстречу сатори, отказываясь от правды эвклидова мира – мира трехмерной перспективы и плотного вещества и готовясь к встрече с лучезарной истиной. И вот по исполнении времени (а оно во власти Аполлона) одна случайная гравюра – далеко не самая совершенная, к тому же изображенная на мятой и промасленной бумаге – делается для Моне тем самым «ослепительным впечатлением», которое распахивает перед ним дверь в новый мир, сообщает неведомую дотоле правду. Волошин глубоко прав, утверждая, что впервые японский рисунок Моне увидел в 1871 г. – это самое козье стадо, даже если до того художник пересмотрел тысячи подобных рисунков: он смотрел на них, не видя их, поскольку до момента, действительно, сатори у него просто не было соответствующего «органа» для их восприятия.
Ибо, как заявляет Волошин, «наше зрение, которым мы пользуемся каждую минуту, не есть виденье. Это лишь бессознательная логическая работа, беглое чтение иероглифов привычной обстановки, которые мы различаем по внешним признакам, как слова в книге»[219]. Скажем, в той способности, какую мы почитаем за зрение, на самом деле решающую роль играет осязание: в жизненных ситуациях мы видим только два пространственных измерения вещи и домысливаем третье измерение, опираясь на опыт ее осязания. Именно на этом зрении, которое по сути видением не является, основано искусство Возрождения. Трехмерность возрожденской картины – это, по Волошину, мир не зрительного опыта, но условный мир теоретического знания[220]: законы перспективы обоснованы математикой, человеческое тело изображают, следуя законам анатомии, – так что действительность на картине лишена движения и жизни. Между тем «живопись имеет дело только с комбинациями зрительных впечатлений»[221], по самой своей сути она есть импрессионизм, – а потому импрессионизм как таковой – «не временное течение, а вечная основа искусства. Это психологический момент в творчестве каждого художника»[222]. Именно к данной интуиции пришло европейское художественное сознание во второй половине XIX в. Вопрос для художников на самом деле стоял об отказе от возрожденческой концепции бытия, сводящей все существующее к формам эвклидовой трехмерности. Смысл видимого предмета – а именно смысл стремился передать художник – выявить в статичной трехмерной форме невозможно; без движения нет духа и жизни, – так что пространственное искусство живописи должно научиться воспроизводить мир подвижный и изменчивый.
Итак, передача средствами живописи категории времени, – следовательно, момента настоящего, – таким было задание, поставленное перед художниками XIX в. – веком нарастания жизненной динамики, когда чувство историзма стало всеобщим. Но Запад не владел тем художественным языком – арсеналом живописных средств, от принципов перспективы до техники нанесения красок, – с помощью которого передается движение и время. Художественный язык Запада восходил к фундаментальным представлениям платонизма о мире вечных, покоящихся в занебесной сфере идей, прообразов земных вещей, постигнуть которые означает приобщиться к истинному смыслу земного бытия. Возрожденская картина платонична в своей философской основе, но в XIX в. истина платонизма пошатнулась и всякое академическое изображение стало казаться натюрмортом – природой мертвой, от которой отлетела ее душа. Для показа жизни, живой природы – неба, воды, растений, а также живущего своей реальной жизнью человека – требовался новый художественный язык. Было ли исторической случайностью длящееся уже не одно десятилетие увлечение Парижа Востоком, или же оно готовило ассимиляцию западным сознанием восточных интуиций? – Во всяком случае, новая живопись – живопись импрессионистов – в своем восстании против возрожденческой традиции опиралась именно на искусство Японии, заимствуя оттуда веками вырабатывавшиеся художественные средства.
Конечно, невозможно японский рисунок или гравюру однозначно свести к философии дзен-буддизма – Волошин, вообще избегающий разговора о всякого рода влияниях на искусство извне, очень далек от этого. Он называет прежде всего «бесконечно острый и тонкий художественный глаз» японцев, «подмечающий те движения человека, животных и птиц, о существовании которых мы только догадываемся по моментальной фотографии». Японское искусство, говорит он далее, развивалось «в прозрачном воздухе страны, залитой солнцем», и именно поэтому оно «знало только краски и никогда не замечало теней», между тем как все европейское искусство основано на принципе светотени, – как раз «это с особой силой показывает, как призрачно то, что мы считаем нашим видимым миром»[223]. – Но, подчеркивая как бы моментальность японского изображения (оно подобно нашей «моментальной фотографии», схватывающей исчезающее мгновение: вот он снова появляется – образ пойманной за хвост мчащейся мыши), указывая вместе с тем на иллюзорность нашего видимого трехмерного мира, Волошин по существу говорит о том, что в своем творчестве японский художник, видимо, вполне бессознательно руководствуется принципами дзен – убежденностью в мнимости мира явлений и надеждой на мгновенное просветление. Японская художественная перспектива, продолжает он, также демонстрирует отказ от иллюзорности, связанной с единственностью точки зрения: в картине совершенно естественно, к примеру, японцы соединяют две перспективные точки, так что устройство пространства в японском искусстве в принципе иное, чем в возрожденческом. И так далее – можно было бы, идя по следам Волошина, говорить, к примеру, о роли в японском изображении легкого штриха или мазка кисти, лишь намекающего на форму предмета: здесь тоже мы вправе распознать влияние буддистской концепции иллюзорности феноменального бытия…
За всеми суждениями Волошина о японской живописи, за самой его методологией подхода к проблеме стоит, не будучи прямо сформулирован, вывод, к которому приходит современная исследовательница: «В своем стремлении “остановить мгновение”, превратить его тем самым в вечность, японский художник имел в виду не воспринимаемый глазом мир, а миг собственного внутреннего прозрения или “озарения” – сатори»[224].
Встреча Запада с Востоком, о которой мы сейчас говорим, действительно, оказывала революционное воздействие на европейское сознание. Европейскому человеку, практически забывшему свою духовную традицию, внезапно открылся совершенно новый для него опыт – путь к постижению сути вещей через специфическое переживание времени. Но европеец остался бесконечно далек от восприятия всей полноты нового опыта: его ум и подсознание, вся его душа все же были устроены в соответствии с платонической в ее основе христианской мистикой, так что восточный импульс мог быть пережит им лишь как слабое дуновение. А говорить о мистике дзен на языке западных категорий можно было, лишь привлекая для этого достаточно искусственную диалектику, – почти что сплошь парадоксами. Потому и приходится, скажем, противоречиво утверждать, что японский художник, в соответствии со своим буддистским мировоззрением, игнорировал как иллюзию видимый мир – но при этом проявлял великую зоркость как раз к его конкретным деталям и неожиданным ракурсам; или же говорить, что, к примеру, Хокусаи занимало движение как таковое – но вместе с тем художественной целью его была неподвижная вечность и т. д.
Что ж, всюду, где разум наталкивается на тайну, он пускает в ход диалектику и апофатику, – это вещи для нас обычные. Но проблема для европейца, встретившегося с мудростью Востока, например для того же Волошина, заключалась в том, чтобы, не ограничиваясь паллиативами, в полной мере стать причастным этой мудрости! И вот тогда-то Волошин и заговорил о «посвящении» – о коренном изменении сознания у человека, прошедшего через «таинство». Он стал размышлять о возможности таинств, приобщающих к этой-то самой загадке времени, к глубине мгновения настоящего. Коаны, шокирующие приемы – вот как учителя дзен «посвящали» учеников; трудно сказать, знал ли Волошин об этом восточном пути, но так или иначе ему импонировал иной путь, привычный для дохристианской Европы, – путь, основанный на мистическом посвятительном ритуале. Мистика дзен отнюдь не предполагала существование трансцендентного божества; Волошин же попытался придать ей теистическую окраску, связав с образом Аполлона. Для этого ему пришлось извлечь из забвения экзотическую, почти никому не известную фигуру Аполлона Сминфея Мышиного и возложить на него – достаточно искусственным путем – роль бога мгновения, покровителя дзенских в своей основе, гипотетических таинств. Именно на идее времени хотел построить Волошин «новый культ Аполлона», о котором он рассуждал в письме к Маковскому. Там он упоминал о древних Аполлоновых символах, которые надо наполнить «новым содержанием»: под таким символом он разумел Аполлона Мышиного («икона» или идол его – статуя Скопаса) и вкладывал в этот символ дзенский смысл. Аполлон, попирающий мышь, – это, по Волошину, бог, останавливающий мгновение: служение ему имеет мистической целью достижение сатори. Ранее мы уже убедились в том, что смысловая суть трактата «Аполлон и мышь» именно такова. Мы снова возвращаемся к нему, рассмотрев некоторые положения собственно искусствоведческих статей Волошина, будучи убеждены в том, что «аполлоническая» эстетика и мистическая концепция этого трактата имеют своим истоком размышления Волошина о живописи импрессионистов.
Когда в данном своем основном эстетическом труде Волошин обосновывает центральную в его эстетике категорию «аполлинийского сна» или «видения», думается, перед его внутренним взором проходила длинная галерея картин импрессионистов: «европейского Хокусаи» Э. Дега, для которого фигура человека не могла существовать иначе как в движении; Э. Мане, творившего под влиянием японских гравюр и стремившегося передать время как процесс; белые кувшинки К. Моне; картины природы В. Ван Гога, пережившего сатори, уехав в Прованс, сделавшийся для него утопической Японией… Художественное сознание Волошина было воспитано импрессионистами, а также оригинальными работами японских мастеров.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
В свое время у меня был большой интерес к софиологии, сопряженный с изучением творчества П. Флоренского и зафиксированный множеством публикаций. Некоторые результаты тех размышлений вошли также в мою монографию о Флоренском «Русский Фауст XX века» (в печати). С другой стороны, именно этот интерес подвигнул меня к переводу фундаментального труда современного немецкого философа Михаэля Френча «Лик Премудрости»: русская софиология там рассматривается в качестве венца всего европейского философского развития (см.: Френч Михаэль. Лик Премудрости. СПб.: Росток, 2015). Для меня, как русского читателя книги Френча, особой ценностью в ней обладает досконально прослеженный генезис софиологии, что я и отразила в своем предисловии к ее русскому переводу, озаглавленном «К истокам софиологии».
2
Свидетельства тупикового характера исканий Серебряного века – духовная сомнительность (иногда явная демоничность) современных сходных явлений: софийных сект, антропософских обществ, «возрожденных» языческих культов и прочих феноменов New Age.
3
В своей книге «Л. Толстой и Достоевский» (1900–1902) Мережковский ссылается на «Добро…» Шестова.
4
К таковым я отношу элитные секты Серебряного века. См. главу «Философская Церковь супругов Мережковских».
5
Журнальная публикация данного раздела: Вопросы философии. 2013. № 7, С. 133–143; № 8. С. 118–128.
6
Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. II. М., 1990. С. 762.
7
См.: Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. II. С. 723; Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. I. Париж, 1983. С. 32.
8
См.: Герцык Е. Воспоминания. М., 1996. С. 61; Сестры Герцык. Письма ⁄ Составление и комментарий Т.Н. Жуковской. М., 2002. С. 9.
9
Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 241.
10
Свасьян К. Хроника жизни Ницше // Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. II. С. 800.
11
Свасьян К. Фридрих Ницше: мученик познания // Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. I. С. 40.
12
Как известно, помрачение рассудка Ницше произошло в результате события, как бы воспроизводящего сон Раскольникова. Ницше был потрясен сценой избиения лошади извозчиком, – подбежав, он обнял животное за шею, после чего потерял сознание. Это случилось в Турине 3 января 1889 г.
13
Герцык Е. Воспоминания. С. 61–65.
14
Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С.118.
15
Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше // Вопросы философии 1990, № 7. С. 68.
16
Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше // Вопросы философии 1990, № 7. С. 98, 100.
17
Там же. С. 115–117.
18
Шестов Л. Достоевский и Нитше (философия трагедии) // Шестов Л. Сочинения. М., 1995. С. 124.
19
См.: Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше. С. 122–123. На самом деле в Мф. 5, 45 заключен призыв Христа любить не только любящих, но и врагов, уподобляясь в этом Богу, который повелевает солнцу равно всходить над добрыми и злыми.
20
Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше. С. 127.
21
Герцык Е. Воспоминания. С. 104.
22
Ницшеанские интуиции несложно найти даже у Флоренского, например, в его панегириках «титаническому» началу, т. е. дионисийской бездне в душе человека (лекции по философии культа, очерк «Павел» в книге «Имена»), в рассуждениях об «апокалипсическом Христе» (переписка с Андреем Белым начала 1900-х годов) и пр.
23
Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. II. С. 503, 575, 679, 673 соотв.
24
Дочь Шестова рассказывает о том, как ребенком Шестов тащил в дом беспризорных животных. И с народовольцами он сблизился на почве жалости к угнетенным (Баранова-Шестова 1983 I, 9—10). А С. Булгаков, свидетель общей любви окружающих к Шестову, объясняет ее «удивительным даром сердца, его чарующей добротой и благоволением» (Булгаков 1993, 519). Парадоксальнейшим образом именно вратами шестовской «чарующей доброты» человеконенавистническая философия Ницше проникла в русское философское сознание.