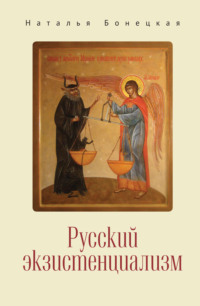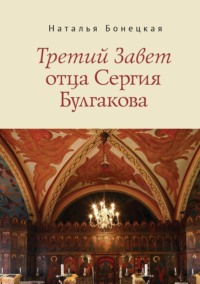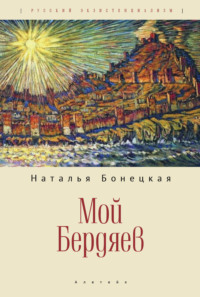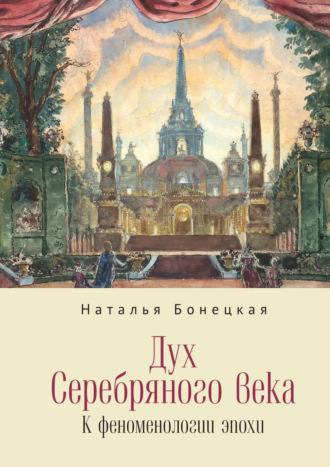
Полная версия
Дух Серебряного века. К феноменологии эпохи
Сейчас для нас не столь важна фундаментальная мысль Фрейда о том, что образы сновидений, как бы ни были они разнообразны, в действительности суть символы сексуальных реалий, определяющих сферу бессознательного. Гораздо существеннее то его утверждение, по которому символическая образность сновидений – та же самая, что и образность «сказок и мифов, шуток и острот», «поговорок и народных песен», – т. е. всей сферы поэтического фольклора[188]: эта гениальная интуиция Фрейда была позднее развита в работах К.Г. Юнга о коллективном бессознательном. И уже непосредственно касается нашей темы проведение Фрейдом параллели между сновидческой и поэтической (имеется в виду творчество индивидуальное) образностью. Фрейд отправляется от феномена, по-немецки называющегося «снами наяву» (Tagtraume). Это фантазии, к которым склонны все люди, – льющийся сквозь психическую жизнь поток представлений, не зависящий от видимых проявлений человека, имеющий источник в его бессознательном и не до конца им фиксируемый и осознаваемый. Именно сны наяву «являются сырым материалом для поэтического творчества, потому что из снов наяву поэт создает путем преобразований, переделок и исключений ситуации, которые он использует в своих новеллах, романах, пьесах»[189]. – Итак, психоанализ уже в начале XX в. усматривал определенное сходство между поэтическим творчеством и таким психическим явлением как сновидения: и то и другое – порождения бессознательного, – этой темной, ночной бездны в человеческой психике, заключающей в себе нереализованные инстинкты и вытесненные желания. Истоки как сновидений, так и поэтической образности скрыты в субъекте, поэтические творения в конце концов тоже суть символы его бессознательного, и следовательно, «их содержание так же мало реально, как и содержание сновидений»[190]. С философской – гносеологической точки зрения психоанализ – это субъективизм и позитивизм, а точнее – прагматизм, ибо критерий истины для него подчинен целям психиатрической практики. Психоанализ не доходит по «последних» оснований как сновидений, так и поэтического творчества, блестяще при этом описывая вещи, так сказать, «предпоследние».
2. Сновидениями занималась отнюдь не только позитивная психология: издревле они были едва ли не главным предметом оккультического интереса. И поскольку наш предмет сейчас – это волошинская концепция сновидений как основа его эстетики, для нас неизбежно обращение к теории сновидений Р. Штейнера, чьим учеником Волошин был в 1900—1910-е годы. В отличие от Фрейда, для Штейнера невидимый мир духов и душ был точно такой же объективной и подлежащей исследованию реальностью, какой для ученого-позитивиста является мир чувственного опыта. И именно во сне, по Штейнеру, человек покидает мир физический и оказывается – вполне определенной частью своего существа – в духовном мире.
Каков же механизм вступления человека в духовное измерение и какова природа возникающих у него при этом сновидений? Чтобы ответить на эти вопросы, надо принять во внимание ту оккультную, восходящую к индийским учениям антропологию, которая была одним из важнейших разделов всеобъемлющего учения Штейнера – его «духовной науки» или антропософии. Согласно Штейнеру, у современного человека достаточно высокоразвиты четыре «члена» его существа: это тесно связанные между собой физическое, «эфирное» и «астральное» тела вместе с духовным началом – Я. Во время сна намечается как бы распадение этого состава: если тонкое эфирное, ответственное за жизненные процессы тело продолжает пронизывать собой покоящееся в состоянии погашенности внешних чувств тело физическое, то астральное тело – тело желаний, чувств, стремлений – и связанное с нем Я начинают отделяться от физического и эфирного тел и переходить в духовный мир. И пока это отделение не завершено и сохраняется связь покоящихся и уходящих членов человека, – пока человек находится в состоянии промежуточном между бодрствованием и сном (ибо сон в полном смысле – глубокий сон – охватывает человека тогда, когда астральное тело и связанное с ним Я полностью выделились из тел физического и эфирного), перед его внутренним взором – взором его Я – проходят сновидческие картины.
Что же это за картины, и каковы причины их возникновения? Ответ Штейнера на данный вопрос отчасти перекликается с теорией сновидений Фрейда. По Штейнеру, как и по Фрейду, «сон творит символические образы; он символист»[191]. Но Фрейд утверждал, что сновидческие образы суть символы бессознательной жизни – нереализованных желаний и инстинктов; в учении же Штейнера понятие бессознательного не играет такой основополагающей роли, как в психоанализе. Штейнер писал, что сновидение превращает в символы не те или другие аспекты психической жизни, а процессы внутри физического организма человека или же то, что в бодрственном состоянии казалось бы чувственным восприятием[192]; представлением о бессознательном как о некоей темной пучине человеческой психики Штейнер не пользовался.
Однако Штейнерова антропология переориентирует науку о сне, допуская, – в духе оккультизма древности, – что сновидческие образы могут иметь объективную природу. В заурядной ситуации эти образы «являются отзвуками бодрственной дневной жизни» человека. Но при определенных условиях человеческое Я, оказавшееся во сне вместе с астральным телом в духовном мире, может воспринимать обитателей этого мира: речь идет о реальных существах – вполне объективных и доступных, по Штейнеру, духовно-научному исследованию духах и душах. Обычно человеку для его осознания себя в качестве Я необходимы внешние чувства; в глубоком сне они погашаются, и вместе с ними погашается бодрственное сознание Я. Но если человек достигает ясновидения (что является целью антропософской практики), то его Я приобретает способность «видеть» без участия чувственного зрения – т. е. сознательно воспринимать обстановку духовного мира, куда Я попадает во время глубокого сна. Обыкновенно глубокий сон – это сон без сновидений: Я, вместе с астральным телом полностью отделившееся от тел эфирного и физического и пребывающее в духовном мире, в силу полной потери связи с более плотными телами, находится в бессознательном состоянии. Но если Я научилось бодрствовать, обходясь без посредства внешних чувств, то оно будет сохранять это бодрственное состояние и в глубоком сне, созерцая свое духовное окружение. Вот эти-то созерцания ясновидца и будут иметь объективное значение. Такие «сновидения» – иной природы, нежели сновидения заурядного человека: если последние суть «символы» его психики, описываемые фрейдизмом, то первые – духовно-научные факты, облики высшей реальности, не признаваемой позитивной психологией.
Весьма примечательно то, что Штейнер, как и Фрейд, проводит параллель между сновидческими и художественными образами. «Прекрасную игру фантазии, лежащую в основе художественного ощущения, люди охотно сравнивают со сновидениями», – и для этого существуют глубокие основания, замечает Штейнер в «Очерке тайноведения» (с. 60). Объяснение этого подобия художественного творчества и сна (мы уже видели, что именно «сновидческое» качество приписывали критики поэзии А. Герцык) можно найти, обратившись к эволюционной теории Штейнера. Согласно одному из ее представлений, сновидческое состояние, каким мы имеем его ныне, есть атавистический остаток весьма древнего мировидения: «В сновидениях проявляется в настоящее время в человеке как пережиток то, что было раньше нормальным состоянием»[193]. А именно в ту эпоху, когда еще существовала Атлантида, человек, у которого четвертый член его существа, Я, находился тогда в зародышевой форме, видел мир отнюдь не так, как видим его мы: предметы физической действительности были для него лишены четких очертаний, и сквозь них просвечивала иная реальность – мир духовный. Человек видел окружающее примерно таким, какой пред нами выступает сновидческая действительность. Это сходство становится понятным, если принять во внимание то, что во сне «Я выключается, и тогда наступают пережитки древних состояний сознания»[194]. Именно благодаря развитию Я, учил Штейнер, мы стали ориентироваться в физическом мире, – но эту способность мы обрели ценой утраты древнего «ясновидения» – способности к созерцанию мира духовного.
И вот что говорит Штейнер по поводу художественного творчества. Во времена древней Атлантиды всем людям было присуще примитивное атавистическое ясновидение и люди создавали художественные формы, исходя именно из него: «Если мы хотим понять некоторые формы примитивного искусства, то мы должны приписать их первоначальному ясновидческому сознанию человечества»[195]. Итак, древние художественные формы суть не порождение субъективного сознания творца, но воспроизведение объективных – духовных фактов. «Искусство произошло из непосредственного, живого бытия человека в сверхчувственном мире и как выражение, посредством всевозможных художественных форм, того, что человек ощущал в качестве живительного в духовном мире»[196] – так продолжалось, пока человек обладал грезящим ясновидением. Надо заметить, что, согласно Штейнеру, остатки этого древнего ясновидения присущи отдельным людям вплоть до современности. Именно с ними связана склонность некоторых к видениям, всякого рода экстазам, пророчествам и т. п. Но антропософия расценивает эту способность не слишком высоко: Штейнер полагал, что ясновидение будущего, отвечающее эволюции мира, должно опираться на ясное (а отнюдь не на грезящее, сновидческое) сознание, на развитое Я. И это задает перспективу развития искусства: когда человек снова, уже сознательно, научится «видеть» в духовном мире, тогда искусство, опирающееся на этот новый опыт, вновь сделается «реалистическим» – воспроизводящим объективную сверхчувственную реальность. Пока же такого рода произведения – редчайшие исключения. Но примечательно, что к ним Штейнер относил спроектированный им самим Гётеанум – «Иоанново здание», предназначавшееся для таинственных антропософских действ и погибшее от пожара в новогоднюю ночь 1924 г.
С исчезновением в ходе эволюции смутного ясновидения взаимосвязь человека с космосом прекратилась и искусство сделалось подражательным – той чисто субъективной деятельностью, родственной фантазии, которую описывал и психоанализ. Никакой сверхчувственной объективности такие художественные произведения, по Штейнеру, не имеют и выражают только лишь личные убеждения и переживания их творца. Но все же, в отличие от Фрейда, Штейнер допускал, что как сновидения, так и художественные образы могут быть объективными по природе, – то ли в далеком прошлом или будущем, то ли благодаря особенным дарованиям отдельных лиц. Именно критерием духовной объективности поверяется качество художественного произведения в антропософии Штейнера; этот принцип перешел из нее в эстетику русского символизма, преломившись, скажем, в лозунг Вяч. Иванова «а realibus ad realiora» (от реального к реальнейшему), намечающий вектор «восхождения» в творческом акте.
3. Рассмотрев в общих чертах психоаналитический и антропософский контексты осмысления понятия сновидения, обратимся теперь к особенно значимому для эстетики М. Волошина контексту ницшеанскому. Прежде всего надо отметить, что сновидение в его обыденном значении, сон как таковой, никакого интереса у Ницше (в отличие от Фрейда и Штейнера) не вызывали: слово «сновидение» он использует строго в переносном смысле. В эстетике Ницше, развитой в глубоком и многоплановом трактате о греческой трагедии, понятие «сновидение» отнесено ко всякому художественному образу. Но почему Ницше захотел обозначить образ этим словом, что общего он усматривал между образной природой искусства и сонной грезой? Хотя ту же самую параллель мы встречаем у Фрейда и Штейнера, у Ницше она понимается несколько иначе. Ницше исходил из метафизики А. Шопенгауэра, который, в свою очередь, отчасти опирался на восточный духовный опыт. И в соответствии с тем, как для философии Упанишад и буддизма видимая действительность – «покрывало Майи» – иллюзорна, для Шопенгауэра чувственный мир также не обладает реальностью и существует лишь в сознании субъекта. Соответственно, образный мир, мир зримых художественных форм, именно по причине его аналогичной иллюзорности можно уподобить сновидению, что и делает Ницше.
Однако все обстоит далеко не так однозначно и прямолинейно: эстетическое сновидение у Ницше отнюдь не сводится к пустой иллюзии и произвольной выдумке. Как это впоследствии будет у Фрейда и Штейнера, природа сновидения у Ницше символична. В индийской философии сквозь покрывало Майи может просвечивать Первоединое – мировая основа; согласно эстетике Шопенгауэра, художник в творческом акте созерцает объективации мировой воли; по мысли же Ницше, только в сонном видении человек будет в силах соприкоснуться с бездной страдания, трагической скорби, – с теми недрами бытия, непосредственные проявления которых человеческая душа вынести не в состоянии. Такое соприкосновение происходит в сфере искусства; возникающие при этом в сознании художника сновидческие образы несут на себе отпечаток встречи их создателя с бытийственной бездной, – в этом и заключается, с одной стороны, их символизм, а с другой – залог их реальности.
Данную, собственно образную сферу искусства Ницше – как бы по традиции и не слишком всерьез – пометил именем Аполлона; более серьезным было для Ницше соотнести музыкальную и трагическую область с Дионисом, чьим «учеником» он себя признавал. Дельфийский бог был привлечен Ницше для осмысления «сонных видений», поскольку греками он осознавался, во-первых, «как бог всех сил, творящих образами», во-вторых, как начало индивидуального бытия и личностного творчества – «principium individuationis», а вместе с тем – и как «толкователь снов»[197]. В статье «Боги Греции в России» мы подчеркнули тот факт, что Волошина заинтересовало само существо Аполлона и он ввел в свою аполлоническую эстетику как бы второстепенные, сразу не бросающиеся в глаза смыслы трактата Ницше, связанные с фигурой Аполлона. Всякое художественное произведение, по Ницше, возникает через взаимодействие начал Диониса и Аполлона, причем если говорить о поэзии, то в разных ее родах взаимодействие это происходит по-разному. В эпосе — искусстве «наивном» – торжествует аполлоническая иллюзия: так, Гомеру удавалось «одерживать победы над ужасающей глубиной миропонимания и болезненной склонностью к страданию»[198]. В драме Аполлон и Дионис выступают как примирившиеся братья; драма, с одной стороны, «есть исключительно сновидение и в силу этого имеет эпическую природу, но, с другой стороны, как объективация дионисического состояния, представляет собой не аполлоническое спасение в иллюзии, а, напротив, разрушение индивидуальности и объединение ее с изначальным бытием»[199]. В лирике же мы обнаруживаем непосредственное проявление сил уже Диониса. Лирик, по словам Ницше, «вначале, как дионисический художник, вполне сливается с Первоединым, его скорбью и противоречием, и воспроизводит образ этого Первоединого как музыку <…>; но затем эта музыка становится для него как бы зримой в символическом сновидении под аполлоническим воздействием сна. <…> Я лирика звучит, таким образом, из бездн бытия»[200]. Самый «глубокий» сон, следовательно, соответствует эпосу с его забвением реальности и «полной поглощенностью красотой иллюзии». Наиболее бодрственным оказывается лирик, чутко вслушивающийся в прибой мировой музыки. Создатель же трагической драмы устанавливал мудрое равновесие между сном и явью: с помощью образов мифологических героев он как бы преобразовывал, смягчал напор дионисических сил. Тем самым достигалось исцеляющее освобождение души от бремени страстей и инстинктов, что и было внутренней целью античного театра.
* * *Итак, сновидение как эстетическая иллюзия, спасающая от ужаса бытия; как весть из сверхчувственного объективного мира; как отражение тайны бессознательного – такие смыслы, упрощая, можно было бы связать с концепциями Ницше, Штейнера и Фрейда соответственно. Посмотрим теперь, что понимал под «сновидением» Волошин, для которого имена Ницше и Штейнера были едва ли не самыми авторитетными и который, несомненно, был знаком и с психоанализом.
Эстетическое «сновидение» осмысливалось Волошиным в первую очередь в его статьях о театре 1909–1912 гг.: благодаря им уясняются те смыслы, которые Волошин вкладывал в понятия «сонного сознания», «мифа», «игры» и пр. Развивая свою философию театрального действа, Волошин идет поначалу по следам Ницше, Штейнера и Фрейда, переплавляя их идеи для собственной концепции. Основополагающей для него является мысль Штейнера о сновидческом состоянии человека в глубочайшей древности и о его трансформации на протяжении послеатлантических эпох. Вслед за Штейнером Волошин связывает с этими эволюционными представлениями мысли, касающиеся природы искусства: «Наше дневное сознание возникло постепенно из древнего, звериного, сонного сознания. Грандиозные, расплывчатые и яркие образы мифов свидетельствуют о том, что когда-то действительность иначе отражалась в душе человека, проникая до его сознания как бы сквозь туманную и радужную толщу сна»[201]. А затем от Штейнера Волошин достаточно остроумно переходит к фундаментальной идее Ницше о трагической драме как своеобразном «сновидении». Волошин подмечает, что в тот момент, когда человек действует, в поле его отчетливого сознания находится лишь его цель, а все прочее из его окружения человек воспринимает как во сне: «Действуя, мы неизбежно замыкаемся в круг древнего сонного сознания, и реальности внешнего мира принимают формы нашего сновидения». – Итак, поскольку «действие и сон – это одно и то же», а «основа всякого театра – драматическое действие», то «театр – это сложный и совершенный инструмент сна» [202].
К этим слегка модифицированным идеям Ницше и Штейнера Волошин в той же самой статье «Организм театра» подключает представления психоанализа Фрейда (вместе со старой Аристотелевой идеей о трагическом катарсисе, которую Волошин переосмысливает во фрейдистском духе), – только на место фрейдовского «бессознательного» Волошин ставит «волю» Шопенгауэра: «Зритель видит в театре сны своей звериной воли и этим очищается от них, как оргиасты освобождались танцем». Так театр служит делу воспитания – служит «выявлением тех преступных инстинктов, которые противоречат требованиям “закона” данного исторического момента. Любой театральный спектакль – это древний очистительный обряд»[203].
Собственно о сновидениях и их природе Волошин пишет в статье 1912 г. «Театр как сновидение». Как и для Штейнера, для него сновидением обозначена граница между сном и явью, дневным и ночным сознанием: «Сновидения приходят вовсе не из глубин мрака. Они в точном смысле составляют его кайму, они живут на той черте, которой день отделяется от тьмы» [204]. Волошин еще более осторожен, чем Штейнер, в своих суждениях о возможной объективности сновидческих образов. По Штейнеру, сновидение в принципе может запечатлеть встречу с существами духовного мира; согласно Волошину, картины сновидений преимущественно иллюзорны: это «обманные многоликие сумерки, которые (совершенно в согласии с Фрейдом! – Н.Б.) сочетают в себе свойства сознания со свойствами подсознательной ночи»[205]. – Впрочем, Волошин в связи с рассуждениями о странной «логике» сновидческой действительности вспоминает слова Лукреция о том, что под видом сонных видений людям являлись боги (соответствующее место из поэмы «О природе вещей» приводит и Ницше в «Рождении трагедии»), – по-видимому, тем самым допуская (в согласии со Штейнером) «откровение» в сновидениях духовного мира. Поэтому из высказывания Волошина, согласно которому «сказки и мифы были в точном смысле сновидениями пробуждавшегося человечества»[206], можно заключить, что в этих первых художественных образах, созданных человечеством, Волошин признавал отображения сверхчувственной реальности.
Интересно, что в данной работе 1912 г. Волошин упоминает опубликованную в 1911 г. серию рассказов Аделаиды Герцык «О том, чего не было» и уточняет намеченную им в статье 1907 г. «Откровения детских игр» параллель между игрой и сном. У ребенка, Я которого своего полного развития еще не достигло (по Штейнеру, это происходит в возрасте примерно 21 года), весьма ярко могут проявляться древние дионисические состояния сознания, которые находят для себя «катарсическую» разрядку в игре: «Мы видим те же кровожадные инстинкты: игры в войну, в разбойников, в охоту, в убийства. То же исступление души, ищущее себе разрешение в усиленном физическом движении, которое, будучи пронизано ритмом, становится пляской. Та же способность мгновенного претворения реальностей жизни в формы сновидения. Тот же брезжущий рассвет между ночью и днем души»[207]. Таким образом, играющий ребенок, по мысли Волошина, являет собой модель человека глубочайшей древности – времени, предшествующего гибели Атлантиды, или же – в согласии с учением Штейнера – олицетворяет собой состояние современного человека во время сна. «Между творчеством детских игр и тем состоянием духа, в котором человечество создавало сказки и мифы, – нет никакой разницы. Игра – это одна из форм сновидения, не больше. Это сновидение с открытыми глазами», – играя, ребенок преображает мир, что человек осуществляет и во сне. И уже в связи с творчеством А. Герцык Волошин замечает: «У человека взрослого этот тип игры становится поэтическим творчеством. Это опьянение сознания» [208].
Такова волошинская теория театрального искусства, опирающаяся на идеи Ницше, Фрейда и Штейнера: в основе ее лежит категория эстетического сновидения, вобравшая в себя эти идеи. Собственный вклад Волошина в театральную эстетику заключается в том, что эту категорию, разработанную Ницше на античном материале, он перенес на театр современный, что было делом довольно рискованным. Действительно: почему современную драму – идет ли речь об Ибсене, Метерлинке, Гауптмане или Чехове – считать неким сонным видением? Этот тезис Волошина был положительно воспринят далеко не всеми читателями его трактатов. Рецензенты встречали их издевками, предлагая страдающим бессонницей лечиться походами в театр; В. Брюсов писал по поводу волошинской театральной эстетики: «Менее всего должно театральное представление превращаться, как того требуют некоторые, в слепое (т. е. как бы при закрытых глазах. – Н.Б.) видение. Зрительный зал должен быть наполнен не толпой грезящих сомнамбул, но аудиторией напряженно-внимательных слушателей»[209]. Брюсова не убедило то, как Волошин психологически обосновал свою концепцию. Всякое человеческое действие (а чем иным является драма, как не действием), особенно совершаемое в состоянии страстного аффекта, в определенном смысле осуществляется словно во сне: сознание человека поглощено целью его поступка, – вся же прочая действительность, воспринимаемая его органами чувств, остается как бы призрачной, сновидческой, не получая от разума человека статуса подлинной реальности. Кроме того действие, поступок, будучи объективацией воли человека, может быть истолкован в терминах метафизики Шопенгауэра-Ницше, и здесь опять-таки всплывет столь значимое для нее понятие сновидения.
Однако гораздо более самобытной эстетика Волошина предстает тогда, когда от осмысления природы театра он обращается к концепции лирической поэзии. Не случайно современники в волошинском томе эстетических исследований «Лики творчества» выше прочих разделов ценили глубокомысленно-загадочный трактат «Аполлон и мышь» (1909–1911). В статье «Боги Греции в России» мы показали, каким образом Волошин соединил в данном трактате эстетические идеи с философией времени. О специфической природе этого синтеза и пойдет сейчас речь.
Взыскующие сатори
Концепция времени, представленная в трактате «Аполлон и мышь», все же непривычна, чужда уму, воспитанному в западной – христианской традиции. Переживание времени как реальности в конечном счете религиозной, – переживание, в котором упразднен и наималейший зазор между временем и вечностью, – почти недоступно для западного человека[210]. Ко времени в христианстве отношение всегда было подозрительным; мировоззрение, признающее за временем бытийственную ценность, с христианской точки зрения, как правило, легко уличить в имманентизме, субъективизме – вообще заземленности, посюсторонности. Время – это аспект трехмерного эвклидова мира, тогда как божественная вечность (даже и мир тварных духов) негласно признается за четвертое измерение даже и теми, кто с соответствующими терминами математики незнаком. Потому всякий серьезный духовный опыт в христианской традиции требует выхода из времени, предполагает неподвижное «предстояние» перед Богом в созерцательной молитве.
Однако христианское мироощущение, разумеется, не единственно: существует мистика времени — путь к тайне бытия через особое переживание мировой динамики, и основанные на подобной религии времени (совершенно необязательно теистической) мировоззренческие традиции. Всякому, кто знакомится с представлениями Волошина об Аполлоне как «боге мгновений», – с волошинскими попытками указать на тайну мгновения (т. е. тайну времени), – вообще с волошинским культом мгновения, непременно должен прийти на память феномен дзен-буддизма, японской разновидности буддизма (возник в VI в. до Р.Х.). Дзен-буддизм, на протяжении уже полутора веков имеющий хождение в Европе[211], это не что иное, мистика мгновения. Учителя дзена – а дзен существует главным образом в устной традиции – призваны подвести ученика к состоянию просветления – или пробуждения (по-японски «сатори»), в котором ученику внезапно, как вспышка озарения, вдруг открывается существо вещей. Все дело здесь во внезапности, мгновенности: сатори означает то, что ученик разом просыпается от жизненного сна, пребывания в царстве иллюзии, и обретает в себе самом первооснову мира, иначе говоря – природу Будды.