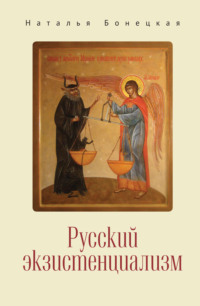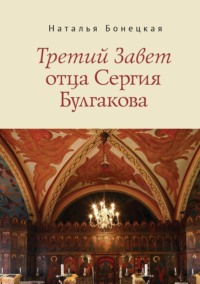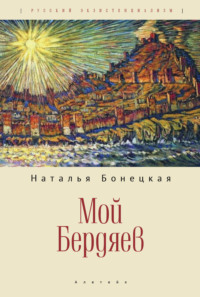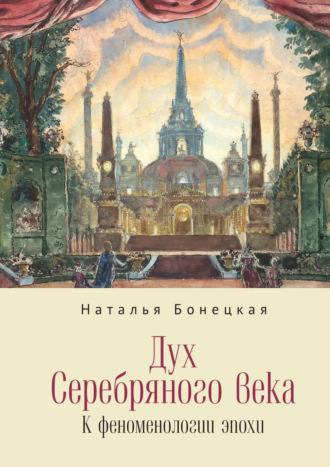
Полная версия
Дух Серебряного века. К феноменологии эпохи
Итак, Волошин, как это следует из процитированного выше письма к Маковскому, занимался реконструкцией древних символов Аполлона, предполагая связать с ними современное содержание. И вот, самым главным среди этих символов для Волошина оказывается символ Аполлона Сминфея – Аполлона Мышиного, к которому обращены первые строки «Илиады» и который был изваян Скопасом: данная статуя солнечного бога примечательна тем, что изображает Аполлона наступающим своей пятой на мышь. Мифологическая связь Аполлона с мышью полностью утрачена для сознания Новейшего времени, и Волошин задается целью проникнуть в нее, считая, в силу некоторых причин (мы их выявим впоследствии), смысл этого странного союза весьма актуальным.
Воссоздание значения данного имени – Аполлон Сминфей – и осуществляется в волошинском трактате 1909–1911 гг. «Аполлон и мышь», написание которого было стимулировано размышлениями Волошина о поэзии Анри де Ренье. В нем Волошин (опять-таки следуя за Ивановым, но при этом скрыто полемизируя с ним) хочет осмыслить глубинно-мистические основания лирической поэзии. Ars poetica Волошина верна методологии Ницше, когда привлекает для фундаментального объяснения поэтического феномена образы античной мифологии. Прежде всего, в связи с лирикой – искусством самым субъективным – Волошин вспоминает Аполлона, поскольку, по Ницше, как раз этот бог традиционно воплощает «начало индивидуальности». И если Волошин говорит о поэтическом «я» как о том, «кто один стоит среди мировой жизни»[169], то налицо явная – стилистико-синтаксическая отсылка к известному пассажу Шопенгауэра – Ницше: «Как среди бушующего моря, с ревом вздымающего и опускающего в безбрежном своем просторе горы валов, сидит на челне пловец, доверяясь слабой ладье, – так среди мира мук спокойно пребывает отдельный человек, с доверием опираясь на principium individuationis»[170]. А на образ именно Аполлона Сминфея Волошина наталкивает, казалось бы, не слишком важный для поэзии мотив бессонницы, во время которой становится слышной возня мышей: Волошин вспоминает «жизни мышью беготню» из пушкинских «Стихов, сочиненных во время бессонницы», бальмонтовский «Дождь» («В углу шуршали мыши…»), «Наваждение» Верлена… Звук пробежавшей мышки может разбудить и ввергнуть в бессонницу, – разрушить сновидение – иллюзорную аполлинийскую картину, прикрывающую горечь реальной жизни, действительного хода времени. Мелькнувшая мышь выступает здесь носительницей и символом временного мгновения, – самого времени, разрушающего сновидческую чару Аполлона.
Вводя в круг основополагающих факторов художественности время, Волошин изменяет основной тенденции ницшеанской эстетики «Рождения трагедии». Правда, на первый взгляд может показаться, что Аполлон – бог сновидческих, пластических образов – должен находиться во вражде со временем; тем самым делается как будто понятной враждебность Аполлонова жеста по отношению к мыши в скульптурном изображении Скопаса. Применительно к лирике это означало бы, что поэтический образ – аполлинийское сонное видение – принадлежит сфере надвременной, – быть может, миру вечных идей. Действительно, именно так расценивала поэзию платонически ориентированная эстетика (в русском варианте, скажем, это концепции Соловьёва и Иванова). Но дело в том, что Волошин-то платоником, обращенным к потустороннему миру, отнюдь не был, и не случайно в своем замечательном очерке о нем М. Цветаева определяла его не в качестве платоника, но как гётеанца. Мысль Волошина о существе поэтической образности гораздо тоньше адаптированного к символистской эстетике платонизма; его коренные эстетические интуиции отличны и от ивановских. Попытаемся проследить дальше за довольно прихотливым ходом «сюжета» в трактате «Аполлон и мышь».
Ключевое положение волошинской концепции состоит в следующем: мифологически – мышь не только враждебна Аполлону, но и, с другой стороны, нужна ему Аполлон попирает мышь: но смысл этого жеста не в том, чтобы раздавить и отбросить вредного зверька, а в том, чтобы явить торжество над ним. Жест попрания мыши не нацелен на житейски тривиальный результат: статуя Скопаса увековечивает жест как таковой, и для ее смысла равно важны и необходимы как Аполлон, так и мышь. Но если мышь обозначат собою время, иначе сказать – протекающее во времени бытие, «жизни мышью беготню», с Аполлоном же связана сфера художественной образности, «аполлинийских сонных видений», – то можно сказать, что образ, – в частности, поэтический, – с одной стороны, находится над временем, но с другой – во времени нуждается. Говоря несколько по-другому, грезящее, сновидческое сознание (в данном контексте – сознание поэта) грезит только отчасти, пребывает, так сказать, в тонком сне[171], другой своей «половиной», какими-то своими способностями оставаясь в мире эвклидововременном. Но находиться в обыденной действительности означает сохранять самосознание; потому можно сказать, что Волошина занимает такая сновидческая греза, относительно которой ее субъект сознает: эти образы суть сновидение, иллюзия, а не дневная реальность. Сохранить сознание во сне; видеть сонные образы и при этом не терять чувства своего «я», понимающего, что он видит сон: чуть ниже мы увидим, из какого контекста Волошин взял описание этого примечательного состояния. Пока нам важно то, что так – двойственно — Волошин изображает эстетическое переживание: оно – не что иное, как погружение в иллюзию, но погружение не полное. Речь идет не об опьянении иллюзией (всякое опьянение – это сфера влияния Диониса), но о погружении в нее с сохранением чувства реальности, с сознанием того, что иллюзия – иллюзорна.
Вот как Волошин говорит о сути художественного опыта: «Душа, посвященная в таинства аполлинийской грезы, стоит на острие между двух бездн: с одной стороны, грозит опасность поверить, что это не сон, с другой – опасность проснуться от сна»[172]. Об этой двойственности искусства – о его захватывающей силе, подчиняясь которой все же остаешься трезвым, – писал и Ницше, не педалируя, впрочем, этой интуиции. Соответствующую цитату, приводимую Волошиным, мы дадим в переводе Г.А. Рачинского: «…Та нежная черта, через которую сновидение не должно переступать, дабы избежать патологического воздействия, – ибо тогда иллюзия обманула бы нас, приняв вид грубой действительности, – и эта черта необходимо должна присутствовать в образе Аполлона»[173]. Волошин сосредоточивается на парадоксальности «сновидческого» состояния (этого балансирования между грезой и сознанием действительности, своеобразного бодрствования во сне) не ради того, чтобы предаться диалектической игре: для него, в самом деле, речь идет о неких аполлинийских «таинствах», о возможности для души быть «посвященной» в них, – то есть о возможности приобщения к глубинам бытия в состоянии этой грезы. И наш дальнейший тезис будет состоять в том, что «аполлинийское посвящение» Волошин если и не отождествляет, то очень сильно сближает с «посвящением» в тайны «высших миров», как оно понималось в антропософии. Приведем здесь итоговые антропософские тезисы, касающиеся этой – ключевой для Штейнера проблемы, сформулированные в его основополагающем труде «Очерк тайноведения».
В главе данной книги, носящей название «Познание высших миров: о посвящении или инициации», Штейнер говорит о некоем гипотетическом необычном состоянии человека – состоянии сна, при котором человек сохраняет сознание. Согласно Штейнеровой теории сна, при глубоком сне Я человека совместно с его астральным телом (ответственным, по Штейнеру, за эмоциональную жизнь человека) уходят в духовный мир, отделившись от физического тела, остающегося покоиться в постели, и пронизывающего его тела эфирного (или «жизненного» – ведающего процессами жизнедеятельности). Как правило, способность Я к самосознанию неразрывно связана с восприятием окружающей действительности этим Я через посредство физических органов чувств. И если связь Я с его физическим телом прервалась (во сне – на время, а в смерти – окончательно), в таком случае Я оказывается беспомощным и его самосознание исчезает. Поэтому во сне (и в посмертии) Я, находящееся в духовном мире, будучи окружено духами и душами, не воспринимает их, ибо не сознает само себя. Это имеет место на данной стадии эволюции человечества в абсолютном большинстве случаев. Но, как утверждает Штейнер, встав на предлагаемый им духовный путь и работая над собой, человек может прийти к тому, что и погрузившись в сон, он сохранит свое сознание и самосознание. «Пробуждение души к такому высшему состоянию сознания может быть названо посвящением (инициацией)»[174]: достигнув его, Я обретает способность «видеть» – без помощи физического зрения – духовную реальность и проникать в тайные закономерности мироздания. Штейнер прямо заявлял, что все те эзотерические сведения, которые он преподавал своим ученикам и слушателям бесчисленных лекций, он добыл при погружении в это совершенно особое состояние сна. Более того, умение сохранять во сне сознание – порука обретения душой действительного бессмертия: находясь между смертью и новым рождением (Штейнер был сторонником представления о реинкарнации) в духовном мире, Я посвященного, чье физическое тело уже не существует, продолжает вести сознательную жизнь, тогда как для большинства людей посмертие оказывается глубочайшим сном, последующая же земная жизнь сопровождается полным забвением предыдущей…
Итак, именно для антропософии, чьим приверженцем в какой-то степени был Волошин, особенное значение имеет состояние, сонное, с одной стороны, но бодрственное – с другой: сознательно воспринимать «сновидческую» реальность означает, по Штейнеру, обрести посвящение. Душа посвященного, впав в подобное состояние, «находилась бы по отношению к обыкновенному миру как бы во сне; и все же она не спала бы, но имела бы перед собой, как во время бодрствования, действительный мир»[175]. Но разве эти слова Штейнера не относимы, практически буквально, к эстетическому переживанию в концепции Волошина – к состоянию «аполлинийской грезы»? Иными словами, по Волошину, поэзия (в «Аполлоне и мыши» речь – из искусств – идет преимущественно о ней) в определенном смысле есть инструмент посвящения, поэт же – посвященный тайновидец.
И здесь Волошин предлагает собственную версию символистской – реалистической в средневековом смысле эстетики. Вспомним, что вслед за Соловьёвым (в свою очередь опиравшимся на эстетику немецких философов) русские символисты говорили об искусстве как о «теургии», «пророчестве», «восхождении от реального к реальнейшему» и т. д., – словом, понимали искусство как феномен в широком смысле религиозный. Волошин же для осмысления художественной образности привлекает антропософию, усматривая определенное сходство между антропософским созерцанием и художественной фантазией. В волошинских терминах и представлениях художественное творчество оказывается не молитвой или пророчеством (это категории традиционной религии), а неким «посвящением» – посвящением в таинства Аполлона. Волошин вполне серьезно размышлял о возможности создания нового культа Аполлона, как это следует из приведенного выше его письма к Маковскому. «Новым содержанием», которым, по замыслу Волошина, надлежало наполнить этот культ, была «духовная наука» Штейнера. Имя античного бога коктебельский мудрец, действительно, глубокомысленно намеревался связать с новейшим оккультизмом. Тем самым, согласно этому проекту, не только оживали древние символы, «воскресал» Аполлон, – но и «духовная наука» обретала религиозный статус: гностический опыт, освоенный ею, вводился в культовые рамки, получал своего божественного покровителя и адресата. «Наука», действительно, делалась религией, не теряя связи с искусством, – ведь речь шла о почитании Вождя муз! Так в волошинском проекте намечался некий синтез духовного знания, религии и искусства, заставляющий вспомнить о «свободной теософии» Соловьёва[176]. За последней стоит индивидуальное почитание Соловьёвым Софии, за замыслом Волошина – «наш культ Аполлона» (письмо к Маковскому), предполагающий наличие некоей общины. Назовем и здесь вещи своими именами: поэтическое и философское творчество Волошина[177], равно как и его «жизнетворчество» – организация бытового уклада коктебельского дома – суть разные грани целостного религиозного – неоязыческого проекта, который сам Волошин освящал именем Аполлона.
Пойдем дальше в наших усилиях понять тот смысл, который Волошин связывал с образом Аполлона; пока что мы указали только на то, что для Волошина, чей интерес сосредоточен на творчестве индивидуальном[178], Аполлон, во-первых, предстает как «principium individuationis», а во-вторых, как «налагатель откровений», посылающий «вещие сны» (аспекты Аполлона, согласно волошинским «Алтарям в пустыне»). О том, что Аполлон в глазах Волошина – «вождь мгновений», «Horomedon» (вождь времени), – собственно Аполлон Сминфей, Мышиный (ибо мышь – живой символ ускользающего мига времени), – мы лишь вкратце упомянули. Попытаемся теперь углубиться именно в это, самое принципиальное для Волошина, определение и имя Аполлона.
Основной тезис Волошина таков: Аполлон – хранитель тайны времени, постичь эту тайну означает сделаться действительно посвященным, пройти через врата совершенно особого опыта. «Таинства аполлинийской грезы» (которые мы только что осмыслили как таинства сохранения сознания во сне и в посмертии) возникают вокруг этой самой тайны времени. Но тайна времени – это тайна мгновения настоящего (ибо прошлое и будущее к сфере времени в собственном ее смысле не принадлежат). И постигнуть эту тайну, действительно, трудно, – прямо скажем, понятийным разумом – невозможно (вспомним знаменитые апории античных философов). Именно потому для ее подлинного постижения – так, по Волошину, – требуются «таинства», требуется некий «культ» – организованная обрядность, словом – требуется «посвящение».
В «Аполлоне и мыши» Волошин предлагает такое феноменологическое описание мгновения (философия времени Волошина имеет характер феноменологии, останавливающейся, так сказать, перед барьером последних тайн – перед окончательным объяснением, удовлетворяющим ум). Мгновение переживается тем, кто, стремясь к «аполлинийской мудрости», всякой статике предпочитает «текущее», как некая точка опоры, которая хотя «постоянно ускользает из-под ног, в то же время составляет единственную опору нашу в реальном мире, единственную связь, которой мы держимся для того, чтобы не утратить реального ощущения действительной жизни»[179]. Реальное бытие, по Волошину, нам дано именно во времени, неразрывно с ним связано. Более того, почти по Хайдеггеру, бытие и есть время. Европейскому сознанию, воспитанному в традиции христианства, которая в свою очередь вся насквозь пронизана платонизмом, нелегко пережить эту интуицию: для платонизма и христианства реальнейшее бытие поднято над потоком времени, вечность трансцендентна этому потоку. Между тем для Волошина «дверь в бесконечность» раскрывается именно в мгновении, вечность не отгорожена от мгновения некоей невидимой перегородкой или каким-то пространством подобно тому, как «занебесная сфера» – область вечных идей у Платона – вынесена в космическую даль: волошинская вечность как бы пребывает «на дне» мгновения. Чтобы приобщиться к вечности, не надо выходить из истории и из повседневного хода времени, как это принято в христианском подвижничестве: для этого, по Волошину, надо всецело отдаться текущему мгновению.
Но какова техника, сам психологический механизм подобной самоотдачи? – Здесь тот предел, достигнув которого, волошинская феноменология останавливается. Представление о том, что «на дне» мгновения покоится вечность, – это постулат веры, аксиома, – если угодно, догмат религии Аполлона Сминфея. Для подлинного же понимания этого догмата (как и всегда, когда речь идет о догматах) требуется религиозно-мистический опыт, требуется «посвящение». Древние сивиллы владели именно этой тайной времени: «Способность пророческого видения связана неразрывно с углублением во мгновение», а мифы о прорицаниях и оракулах использовали образ мыши[180]. Но в XX в., когда архаические способности человека утрачены и пути в высшие миры забыты, нечего было бы и говорить обо всех этих тайнах, если бы не существовало искусство, удивительным образом в самих своих принципах сохранившее причастность к древней мудрости. Волошин поднимает проблему времени и рассуждает о его тайне все же в связи с теорией поэзии. Посмотрим, как он увязывает воедино эстетику и философию мгновения, вовлекая к тому же в круг этих еще сугубо «научных» вопросов образ Аполлона Мышиного.
Опираясь на мысль П.Клоделя, выраженную в его оде «Музы», Волошин развивает представление о «внутреннем времени», обусловленном памятью. Именно память – старшая из муз Мнемосина – связывает вечность с временем, воплощенным в слове, говорит Клодель. Переживаемое человеком время, продолжает Волошин, течет отнюдь не с равномерностью хода часов: скажем, в детстве день тянется бесконечно, в зрелом же возрасте мы живем, как в конце декабря, когда свет чуть забрезжит – и вновь наступает ночь. Внутреннее время – это поток представлений и образов мира нашей души. Они «чередуются, не исключая одно другое, но взаимно друг друга проникая, существуя одновременно в одной и той же точке, следуя своими путями друг сквозь друга, как волны эфира или влаги»[181]. Сцеплением этих внутренних образов ведает Мнемосина, которая, по выражению Клоделя, «поставлена у самого пульса бытия».
Итак, реальное время – это не ход часового механизма, а поток душевных состояний, лишь слегка – да и то не всегда – направляемый нашим Я. А если речь идет о душе поэта, то для него течение времени определяется творческим источником – «Кастальским ключом», который бьет из сокровенных душевных недр, соприкасающихся с вечностью. Поток поэтических образов – «аполлинийских снов» – обусловлен созерцанием поэтом вечности, – вслушиванием, вглядыванием в нее оком духа, усилием вспомнить самого себя. И потому, когда всплывающие перед взором его поэтического Я аполлинийские картины облекаются поэтом в слова и объективируются, они несут на себе печать воспоминания о своем вечном источнике, передают биение пульса вечности. Так осуществляется (во «внутреннем», аполлиническом «времени») победа над страшным временем механики, – абстрактным, с одной стороны, но увлекающим все сущее в бездну небытия и забвения – с другой. «Аполлинийское сознание находится вне сферы бытия, опустошаемой временем, корни его погружены в текучую влагу мгновений»[182]: мгновение в концепции «внутреннего времени» Волошина – Клоделя, мгновение, каким его переживает «аполлинийское» – поэтическое сознание, – оказывается уже не какой-то неуловимой апорией, на которую можно лишь намекнуть, взяв символом виляние хвоста убегающей мышки, но предстает прекрасной картиной, напряжением поэтической воли извлеченной из потока внутренних образов и обретшей свой смысл в звуках поэтического слова.
Действительно, над призрачной «жизни мышьей беготней», у которой нет подлинного – вечного существования, поэт, по мысли Волошина, растягивает покров, сотканный из прекрасных образов – грез своей, причастной вечности, души. Но поэт способен на это, лишь будучи одержим Аполлоном, – принеся богу в «священную жертву» свою собственную душу. Ибо поэт, просто как человек, победить время – поймать за хвост бегущую мышь – не в состоянии, проникнуть в тайну мгновения своими обыкновенными силами он не сумеет. Это осуществляется лишь погружением во время внутреннее, в поток внутренних образов, имеющих сновидческую природу. Но такие сны кому попало не снятся: «аполлинийские» сны предполагают избранничество, посвящение, вдохновение от Аполлона. Итак, на самом деле победу над временем одерживает, по Волошину, сам дельфийский бог. Аполлон Сминфей, чья пята все же настигает, зависая над ней, убегающую мышь, – вот тот божественный образец, который освящает собой акт поэтического творчества, рождение каждого поэтического образа. Поэзия совершенно всерьез возводится Волошиным к ее сверхъестественному источнику; эстетику, представленную в трактате «Аполлон и мышь», хочется назвать богословием — учением об Аполлоне Сминфее, покровителе поэзии.
Самый главный момент в волошинской «богословской» диалектике – это представление о возможности победить время силами, так сказать, самого же времени. Речь идет о том, чтобы победить временную «дурную», несущую уничтожение бесконечность другими содержащимися во времени же потенциями, что прежде всего требует погружения во время внутреннее. В философии времени Волошина время «попирается» (буквально – жестом Аполлона) временем же, подобно тому как для христианина смерть оказывается попранной смертью Христа[183]. Здесь, в волошинской концепции, не софизм, не мыслительный трюк: время истекает из вечности и «попирается» силами вечными, к которым причастна душа поэта, вдохновляемого вечным богом. Это – языческий вариант победы над небытием, смертью, остроумно (точнее, все же глубокомысленно) связанный Волошиным с эстетическими идеями: поэзия в его синтетическом учении предстает феноменом религиозным.
Наконец мы растолковали загадочный символ Аполлона Мышиного, сделанного Волошиным эмблемой для своей эстетики. В поэтической – вообще художественной грезе, благодаря ее связи со сверхчувственным вечным миром, приоткрываются тайны высшего бытия: так, максимально кратко, можно передать суть волошинской эстетики. Тезис этот – в его абстрактной формулировке – достаточно привычен для контекста русского символизма, но Волошин наполняет его своим собственным, пропущенным через опыт его души содержанием. Мы указали на связь эстетики Волошина со столь значимой для него «духовной наукой» Штейнера: именно из духовно-научного контекста в волошинскую концепцию вошли весьма важные для нее категории посвящения и таинства[184]. – Но есть и другие мировоззренческие источники волошинского учения, благодаря которым оно имеет столь отчетливую темпоральную окраску – ориентировано именно на время. Этим источникам мы уделим особое внимание в наших дальнейших исследованиях волошинской эстетики.
Эстетика М.А. Волошина[185]
Сон и сновидения
Основной категорией эстетики М. Волошина служит творческое сновидение. Какой смысл вкладывал Волошин в это понятие, какие с ним соотносил философские, психологические, эстетические, быть может, оккультные обертоны? Ясно, что критик использует слово «сновидение» не совсем в его прямом значении, отвечающем простому факту нашей повседневной жизни. В волошинский лексикон «сновидение» вошло из контекста тогдашней европейской мысли. Заметим, что в начале XX в. о сновидениях вообще говорили очень много. Дело в том, что несколько ранее возник большой интерес к необычным психическим явлениям, таким как медиумизм, гипноз, телепатия и пр., в попытках объяснения которых вспомнили и о сновидческой способности человека. К 1900—1910-м годам уже существовала обширная литература по проблеме сна и сновидений, относящаяся не только к психологии, но и к некоторым другим областям знания. Слово «сновидение» жило в самых разных теоретических дискурсах: человеческая способность видеть сны описывалась под углом зрения различных наук, с самой разной метафизической глубиной.
Наш тезис будет здесь заключаться в том, что Волошин, разрабатывая столь важную для его эстетики категорию сновидения, глубоко усвоил концепции некоторых своих предшественников, а вслед за тем обогатил представление о творческом «сне» достаточно самобытными интуициями. Никак, разумеется, не претендуя на исчерпывающее описание состояния проблемы сна в первые десятилетия XX в., мы укажем лишь на те научные контексты, сообщающие слову «сновидение» конкретный смысл, которые были значимы для творчества Волошина. Это психоанализ 3. Фрейда, антропософия Р. Штейнера и, конечно, – эстетика Ф. Ницше.
1. Как известно, именно осмысление сновидений послужило отправной точкой развития психоанализа. Во время сна погашается деятельность сознательного и волевого «я», так что психические проявления во сне могут быть связаны с бессознательным человека, – но как раз бессознательное оказывалось главным объектом психоаналитических исследований. В 1900 г. в свет вышла книга Фрейда «Толкование сновидений», в которой были заложены основы психоанализа. Изучив в качестве практикующего психиатра огромный опытный материал, Фрейд пришел к выводу, по которому «сновидение является осуществлением желания», а точнее – «скрытое осуществление подавленного, вытесненного желания»[186]. Если человек не в состоянии реально осуществить какое-либо свое желание (Фрейд особенно часто имел в виду желания сексуального порядка, видя в них как бы квинтэссенцию земных желаний вообще), то, будучи подавлено, оно из светлой области психики уходит во тьму бессознательного, которое из-за этого оказывается вместилищем, резервуаром таких вытесненных и придушенных, но отнюдь не уничтоженных вожделений и инстинктов. Механизм возникновения сновидения и состоит в том, что во сне желания человека все же осуществляются, – однако не в прямом своем значении, но как бы проходя через некую «цензуру», заменяющую объекты непосредственного, инстинктивного стремления на подобные им образы. По этой причине сновидческие картины оказываются символическим отображением сферы бессознательного, причем, по Фрейду, символы сновидений обладают устойчивым постоянством: «Символика, может быть, самая примечательная часть в теории сновидений»[187].