 полная версия
полная версияАктуальные проблемы государственной политики
Примером политической роли правосудия служит практика голосования в Верховном Суде США по делам, имеющим отношение к партийно-политическим проблемам. Так, например, в 2000 г. суд принял спорное с правовой точки зрения решение об отмене пересчета голосов на президентских выборах, поданных в штате Флорида, проголосовав по «партийному списку», – голоса пяти судей-республиканцев перевесили голоса четырех судей-демократов. Вышеуказанное решение обеспечило победу на выборах Дж. Буша. Та или иная политика может закрепиться или провалиться в результате того, как подойдут к новому закону судьи, призванные толковать и применять его. Очевидно, что действительность сложно согласовать с легалистскими концепциями абсолютной независимости и нейтральности судебной ветви власти. Право влияет на политику, а политика – на право.
Однако взаимодействие права и политики необязательно характеризуется лишь «положительной» связью. Возможны такие комбинации взаимодействия, которые ведут к тому, что право используется для целей, не имеющих ничего общего с его изначальной целью («манипуляции правом»). Так, применение формальных процедур возможно для расправы с политическими противниками под видом законного уголовного судопроизводства. Остаются возможными политико-конъюнктурные изменения законодательства, сужающего возможности для борьбы за власть со стороны иных политических сил, а изменения в толковании конституционных норм без их формального изменения порой приводят к конституционным переворотам (целенаправленному изменению конституционного строя в обход установленной процедуры).
Законы. В научной литературе сформулированы сотни и даже тысячи дефиниций права, среди которых какой-либо одной общепризнанной не существует. Однако каждая из них так или иначе исходит из того, что «ядром» права является система санкционированных государством и поддерживаемых с помощью организованного государственного принуждения общеобязательных норм (правил поведения), направленная на регулирование общественных отношений. Совокупность таких норм называется позитивным правом, а главным его воплощением служит закон.
Именно закон является главным «продуктом» нормотворческой (законодательной) деятельности и обладает определенными качественными характеристиками, которые отличают его от других актов:
принимается высшими представительными органами государственной власти: парламентом либо всенародным голосованием (референдумом);
регулирует основополагающие и наиболее значимые, важнейшие общественные отношения;
обладает высшей юридической силой в правовой системе страны;
является нормативным актом – актом, устанавливающим общие правила поведения (нормы), носящие обязательный для всех лиц характер;
наиболее устойчив и стабилен, подвергается изменению, дополнению и отмене лишь в исключительных случаях в силу объективной необходимости;
принимается в особом порядке, предусмотренном конституцией и регламентом парламента.
Важно!
Закон воплощает в себе определенные политические решения и призван служить основой для соответствующих решений и действий органов исполнительной власти и судов и ограничивать их. Закон деполитизирует их, насколько это возможно.
Чем менее определенной и ясной является законодательная норма, тем больше возможностей для политического усмотрения возникает в правоприменительной деятельности. В этом проявляется вечный конфликт между необходимыми гибкостью (бессмысленно, да и невозможно до мельчайших деталей «прописывать» каждое мало-мальски важное действие) и четкостью норм (чтобы не допустить смещения компетенции принятия политических решений и их несогласованность).
Нормативные акты органов исполнительной власти и президента. Законы составляют каркас правовой системы государства. Именно на них основывается вся совокупность подзаконных нормативных актов, в числе которых особую роль играют ведомственные акты – нормативные акты органов исполнительной власти (правительства, министерств и др.). В настоящее время ведомственные акты составляют (в количественном отношении) бльшую часть законодательства как России, так и других стран. Разумеется, в этом заключается противоречие с классической теорией разделения властей, предполагающей исключительное право особого представительного органа принимать общеобязательные нормы и правила – усложнение общественных отношений с возникновением необходимости в детализированном правовом регулировании специфических сфер общественной жизни сделало невозможным регулирование всех вопросов на уровне законов.
Зачастую говорят, что правительство выступает в качестве «ведущего органа парламента», определяя набор вопросов, нуждающихся в рассмотрении и разрешении законодательным органом. В России эта тенденция сильна ввиду переходного периода, как правило, сопровождающегося усилением влияния на процесс принятия нормативно-правовых решений институтов исполнительной власти (правительство и президент). В таком механизме парламент осуществляет формализующую функцию инициатив исполнительной власти.
Важнейшую роль играют и президентские акты, прежде всего указы. Так, в 1990-х годах даже возникло выражение «указное право», смысл которого заключался в замещении законов указами президента. Ввиду сложностей законодательной процедуры, наличия существенных разногласий в парламенте и резкого изменения общественных отношений президентом активно принимались указы по вопросам, нуждавшимся именно в регулировании на уровне закона. В результате их количество за период с 1991 по 1999 г. достигло по меньшей мере двух тысяч. Хотя на сегодняшний день значение указов несколько уменьшилось, они по-прежнему играют важную роль.
Политические документы. Нормативные правовые акты следует отличать от различного рода политических документов, хотя и они непосредственно влияют как на процессы правотворчества, так и на правоприменительную деятельность (послания, концепции, стратегии, доктрины, декларации, программы, различные заявления и обращения). В таких документах, в настоящее время активно принимающихся в нашей стране, определяются основные цели и задачи государственного управления и способы их достижения, поэтому они оказывают важное регулирующее воздействие на политическую деятельность и способствуют правотворчеству и правоприменению. Политические документы в отличие от законов и иных нормативных актов не обладают юридико-нормативным характером. К примеру, Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ – несмотря на наличие соответствующего конституционно-правового основания (ст. 84 Конституции РФ) и статус документа, определяющего приоритетные направления развития страны, – не обладает обязывающим характером. Значение послания во многом зависит от конъюнктурного расклада политических сил и от возможности влияния президента на политический процесс.
§ 3. Социокультурный фундамент правовых систем
Какие бы отрасли права мы ни рассматривали (гражданское, трудовое, семейное право и др.), под ними всегда находятся более или менее сознательные представления о «естественном» праве – об идеальном, не зависящем от государства праве, которое как бы вытекает из велений разума и природы мира и человека. Разумеется, естественное право суть порождение культуры, в нем нет ничего «естественного». Оно настолько тесно связано с мироощущением, что кажется, будто оно выводится из природы вещей. «Так устроен мир» – таково обоснование «естественного» права. Поскольку мироощущение и представление о человеке в современном и традиционном обществах различны, различаются и основания «естественного» права. Следовательно, разным содержанием наполняются в России и на Западе и нормы права, и соответственно целые правовые институты.
Важно!
Правовые системы России и Запада исторически складывались неодинаково и имеют фундаментальные различия. Основываются они, прежде всего, на антропологии – представлении о человеке. Оно отражает специфическое мировоззрение, формирующее соответствующую культуру.
Так, право западного общества основано на концепции «естественного человека», представленного как эгоистичный свободный индивид, от природы склонный к экспроприации и подавлению более слабых. Ее формирование шло в течение длительного времени, однако настоящий «прорыв» случился в Новое время – Реформация и атомизирующее воздействие рыночного хозяйства разорвали множество связей, действовавших в предыдущий период. Все это привело к резкому расширению масштабов внедрения юридических норм (законов) в «ткань» человеческих отношений. Право должно было заменить прежние социальные регуляторы, поскольку те уже были неспособны ограничивать «борьбу» между индивидами.
Право российского – традиционного по своему происхождению – общества видело в человеке другой смысл. Хотя в России однозначной антропологической модели выработано не было, складывалось принимающее различные формы представление о человеке как соборной личности. В русском мироощущении господствовала идея всеединства, выраженная в концепции мира. И. Солоневич отмечал: «Французский моралист Вовенар, современник Вольтера, сказал: "Тот, кто боится людей, любит законы". Русское мировоззрение отличается большим доверием к людям и меньшей любовью к законам. Доверие к людям сплетается из того русского оптимизма, о котором писал профессор Шубарт, по моей формулировке, – из православного мироощущения… Отсюда идет доверие к человеку, как к … частице бесконечной любви и бесконечного добра, которая вложена Творцом в каждую человеческую душу». Подобное представление о человеке делало излишним обращение к законам как главному инструменту регулирования отношений в русском обществе.
Разумеется, и массы столь непохожих друг на друга людей скрепляются в народы с помощью различных механизмов. Если русских сильно связывает друг с другом ощущение родства, за которым прячется идея православного религиозного братства и тысячелетний опыт крестьянской общины, англичан, прошедших через огонь Реформации и раскрестьянивания, – уважение прав другого. И право в своей основе должно исходить из этих скрепляющих связей.
Отличающиеся антропологические картины обусловливают соответствующую этику отношений. Безусловно, в любом обществе система права базируется на господствующей морали, на представлениях о допустимом и запретном, однако в западном обществе все это формализовано (представлено в виде законов, кодексов и др.) в несравненно большей степени, чем в традиционных обществах. Причина в том, что в западном обществе устранена единая для всех этика. Отказ от единой этики породил нигилизм – особое свойство западной культуры. Ф. фон Хайек, идейный основатель современного неолиберализма, отмечал: «Всенародная солидарность со всеобъемлющим этическим кодексом или с единой системой ценностей… вещь неведомая в свободном обществе». В западном обществе контроль общей этики заменяется контролем закона.
Важно!
В традиционном обществе право в огромной своей части записано в культурных нормах, запретах или преданиях. Эти нормы выражены на языке традиций, передаваемых от поколения к поколению. В России право ассоциируется с Правдой – сводом базовых этических норм. И они до такой степени сливаются с нормами права, что большинство людей в обыденной жизни и не делают между ними различия.
В.Б. Безгин пишет: «Обычно-правовая система российского крестьянства выработала опыт организации правомерного поведения членов общества… Современная Россия перестала быть крестьянской по демографическому признаку, однако осталась ею по духу. Глубоко усвоенные, ушедшие в подсознание традиционные представления о правде, справедливости и пользе стали неотъемлемой частью правосознания россиян».
Можно сказать, несмотря на привычную инерцию восприятия, что так называемое «правовое» общество с научной точки зрения вряд ли можно рассматривать как культурное достижение. Скорее, оно является вынужденным состоянием для общества, утратившего нравственные регуляторы внутреннего взаимодействия. Философ права Ю.В. Тихонравов пишет об этом следующее: «Право есть итог прогресса цивилизации и деградации культуры, оно есть предельная уступка духа реальности… Дух через последовательность кризисов движется по цепочке "религия – мораль – обычай – право", теряя при этом свою ясность и силу… Когда же ни одно из этих оснований не может эффективно воздействовать на поведение людей, из них выделяется система норм, поддерживаемых реальной властью. Это и есть право».
Историки отмечают, что высокая степень юридической оформленности человеческих отношений является специфическим качеством культуры народов Западной Европы. Статус юридически оформленных законов вообще был низок в традиционных незападных обществах. В.В. Малявин так характеризует отношение к закону в традиционном китайском обществе: «Примечательно, что предание приписывало изобретение законов не мудрым царям древности и даже не китайцам, а южным варварам, которые по причине своей дикости были вынуждены поддерживать порядок в своих землях при помощи законов (наказаний). Истинно же возвышенные мужи, по представлениям китайцев, в законах не нуждаются, ибо они “знают ритуал”».
Важно!
Стремления внедрить в общество правовые институты общества другого типа приводили к тяжелейшим социальным травмам ввиду инерции прежнего права. Формальное введение новых правовых норм не означает их моментального признания и выполнения, в особенности если они изменяют ставший привычным ход вещей, а уж тем более если внедряются правовые институты, которые исходят из иного мироощущения и представления о человеке. Основной задачей законодателя в такие сложные переломные моменты становится обеспечение преемственности права. Однако порой европейское («цивилизованное») образование элиты приводит к утрате понимания представлений о праве, которые укоренены в массовой культуре народа.
Т. Шанин однажды вспоминал: «В свое время я работал над общинным правом России. В 1860-е годы общинное право стало законом, применявшимся в волостных судах. Судили в них по традиции, поскольку общинное право – это традиционное право… когда пошли апелляции в Сенат… оказалось, что в нем не знали, что делать с этими апелляциями, ибо не вполне представляли, каковы законы общинного права. На места были посланы сотни молодых правоведов, чтобы собрать эти традиционные нормы и затем кодифицировать их. Была собрана масса материалов, и вот вспоминается один интересный документ. Это протокол, который вел один из таких молодых правоведов в волостном суде, слушавшем дело о земельной тяжбе между двумя сторонами. Посоветовавшись, суд объявил: этот прав, этот не прав; этому – две трети спорного участка земли, этому – одну треть. Правовед, конечно, вскинулся: что это такое – если этот прав, то он должен получить всю землю, а другой вообще не имеет права на нее. На что волостные судьи ответили: “Земля – это только земля, а им придется жить в одном селе всю жизнь”. Возможно, эта русская крестьянская мудрость волостных судей важна и для современной России».
Из истории политической науки

Теодор Шанин (1930 – н.в.)
Британский социолог, известен своими исследованиями в области исторической социологии и крестьяноведенья.
Основные сочинения: «Крестьяне и крестьянские хозяйства» (1971), «Революция как момент истины» (1986), «Неформальная экономика: Россия и мир» (1999)
Непонимание этой «русской крестьянской мудрости» лежало и лежит в основе важных конфликтов. К тому времени две части русского народа уже существовали в разных системах права и не понимали друг друга, считая право другой стороны «бесправием». Такое «двоеправие» являлось признаком кризиса, который снова стал актуальным в России. Условно можно сказать, что на Западе сложилась двойственная структура «право – бесправие», и в ее рамках мыслил культурный слой России и начала ХХ в., и сейчас, в начале ХХI в. Однако в русской культуре жила и живет более сложная система: «официальное право – обычное право – бесправие». Такая характеристика правовой системы российского общества и вчера и сегодня рассматривается, по сути, в качестве «врожденного порока» и свидетельства «недоразвитости» российского общества. Не понимая ее культурных истоков, ее стремятся заменить «цивилизованной правовой системой», взращенной в иных культурных условиях.
С особенной очевидностью эти конфликты проявляются в периоды общественных трансформаций. Так, в 1991 г. произошла ликвидация основ прежнего советского права. Авторитарными средствами совершилась попытка внедрить в России либеральные конституционные принципы, основанные на культуре индивидуализма, совершенно чуждой представлениям абсолютного большинства населения. Хотя в столь сложных условиях право нуждалось в мощном научном обеспечении, ни правовая, ни зарождавшаяся политическая наука не смогли помочь ему, поглощенные утопическими представлениями. Предстоял тяжелейший переход от одной общественной системы к другой, однако власть и интеллигенция имели лишь идеализированные представления о будущем общественно-политическом устройстве. Характеризуя период 1990-х годов, К. Малфит пишет о феномене «перевернутой легитимности» – обращение к либеральной демократии, конституционализму и правовому государству в периоды смены режимов становится мощным инструментом, поскольку оно позволяет обосновать цели обновления, противопоставляя новое устройство старому укладу (правовое государство – социалистической законности), что само по себе легитимирует новую власть. Однако если новые институты слишком отличаются от ранее выработанных норм и ценностей, они не способны функционировать.
Ситуация осложнялась этическим нигилизмом власти, отражавшемся также и на праве. Его авторитет пострадал настолько, что до сегодняшнего дня его не удается восстановить в обществе. Выработка юридических решений осуществлялась под влиянием сиюминутных «революционных» интересов, без понимания культурных традиций и основ, анализа средне– и долгосрочных последствий для государства и общества, порой под влиянием криминальных (по своей сути) или лично-корыстных мотиваций.
Важно!
Основанное на имитации или заимствовании западных правовых институтов, право вошло в острейшее противоречие с культурой. Сегодня право шаг за шагом входит в «штатный режим». Однако если в основе советского права находился свой мощнейший научно-теоретический аппарат, российское право им не обладает. Попытка использовать зарубежные научные разработки также не привели к возникновению эффективной и справедливой правовой системы. Это становится вызовом времени. Нужна мобилизация профессионалов, интеллигенции для выработки своей (адаптированной) научной правовой теории и своего понятийного аппарата в рамках правовой науки. Без них российское право так и будет терять время в пробах и ошибках.
§ 4. Правовое государство как юридический и идеологический конструкт
С учетом вышесказанного любопытным будет разобраться со смыслом понятия «правовое государство». Ведь вопрос о том, можно или нет считать Россию правовым государством, стал одним из ключевых в отечественном общественно-политическом дискурсе последних лет (да и в дореволюционный период к нему было приковано большое внимание).
М.Н. Марченко замечает, что для феномена правового государства свойственна «неомифологизация с оттенком государствофобии, демократизации политической власти, и одновременно… просматривается фетишизация права». С.А. Котляревский еще в начале XX в. подчеркивал стремление немецких ученых (придумавших термин «Rechtsstaat») к «национализации» правового государства и превращению его в «исконное достояние немецкого духа». Аналогичные стремления наблюдаются и сегодня уже в европейской среде. Термин «правовое государство» пережил те же метаморфозы, что и множество других «популярных» терминов (например, «гражданское общество»). Из научного и далеко не однозначного термина правовое государство превратилось в инструмент политического давления и навешивания «ярлыков».
Из истории политической науки
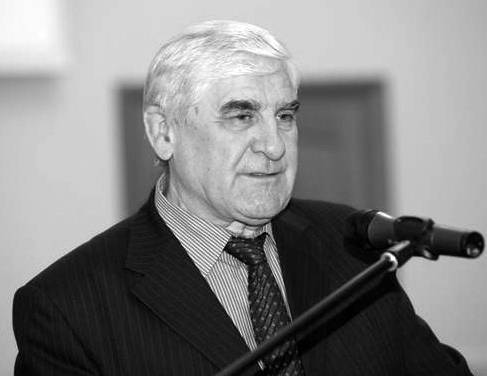
М.Н. Марченко (1940 – н.в.)
Российский юрист, специалист в области теории государства и права.
Основные сочинения: «Теория государства и права» (1996), «Правовые системы современного мира» (2002), «Государство и право в условиях глобализации» (2008)

C.А. Котляревский (1873—1939)
Российский правовед и государствовед.
Основные сочинения: «Конституционное государство. Опыт политико-морфологического обзора» (1907), «Юридические предпосылки русских Основных законов» (1912), «Власть и право. Проблема правового государства» (1915)
Позитивисты полагали, что неправового государства вообще не существует, поскольку каждое государство основано на праве. (Г. Кельзен отмечал, что «всякое государство есть правовое государство»). Однако после Второй мировой войны возможность формального отнесения к правовым государствам фашистской диктатуры приводила к определенному замешательству в научной среде и стремлению к выработке каких-то дополнительных критериев, зачастую далеко не юридического характера. Это проложило путь к дальнейшей политизации термина, который к концу 80-х годов прошлого века стал весьма активно использоваться западными державами для дискредитации советского блока под теми или иными предлогами (несоблюдение прав человека, отсутствие демократических инситутов и др.). В результате термин «правовое государство» стало практически невозможно «очистить» от идеологических «шумов».
Правовое государство (в научном смысле) является очень сложным конструктом, включающим весьма неопределенный набор элементов. Это сложное условное понятие, которое имеет разный смысл в разных контекстах, в разных культурах в разные периоды времени. Многие правоведы отмечают, что правовое государство есть «понятие-контейнер» (container-concepts) – содержание его предопределяется политико-правовой культурой того или иного государства. В западноевропейском понимании к ключевому элементу относятся права человека – их соблюдение и уважение, по сути, является мерилом «правовой государственности». В обыденном сознании в России считается, что правовое государство – то, которое строго соблюдает установленные и известные всем нормы и всех заставляет их соблюдать (эта идея вытекает еще из первоначального понимания концепта «Rechtsstaat» в противовес англосаксонскому «The Rule of Law», отдавашему предпочтение защите прав и свобод граждан).
Важно!
Правовое государство изначально предполагает некую абсолютизацию и идеализацию права. Однако наряду с правом, как мы выяснили, существуют не менее или даже более важные (и надежные) социальные регуляторы. Их соотношение в различных обществах неодинаково. Этого западная концепция «правового государства» также, как правило, не замечает, поскольку ей свойственны иные представления о праве и этике. М.В. Антонов указывает, что современное состояние всеобъемлющего замещения правом иных регуляторов в исторической перспективе является скорее исключением. Да и границы регулирования тех или иных институтов сдвигаются в зависимости от культуры общества (например, семьи).
Основные выводы
«Ядром» политики, вокруг которого разворачивается политическая борьба между различными группами (среди которых есть и «правящая» группа), является государство. Именно поэтому анализ взаимодействия права и политики сводится, как правило, к вопросу о соотношении между правом и властью.
Особенностью конституции является ее двойственная – юридико-политическая – природа. Ее юридическое значение проявляется в верховенстве и приоритете над другими источниками права (законами, актами органов исполнительной власти и др.), специальной процедуре принятия и изменения и недопустимости противоречия ее положениям иных нормативных актов. Политический смысл конституции заключается в отражении идеального образа политической системы общества. Между фактической конституцией как совокупностью реально существующих политических отношений и идеальным образом, воплощенным в формальной конституции, никогда не бывает абсолютной идентичности, а порой они отличаются друг от друга до неузнаваемости.
В целях обеспечения соблюдения норм конституции существуют органы конституционного контроля, в природе которых, как и в конституции, заложено двойственное, политико-правовое, начало. Дилемма о том, какую функцию выполняют суды – политизируют правосудие либо гарантируют неподчинение права политике, актуальна и по сей день. Осуществляя юридические судебные функции, суд одновременно вольно или невольно выступает в качестве «негативного законодателя» в противоположность «позитивному законодателю» – парламенту, и его значение продолжает расти.

