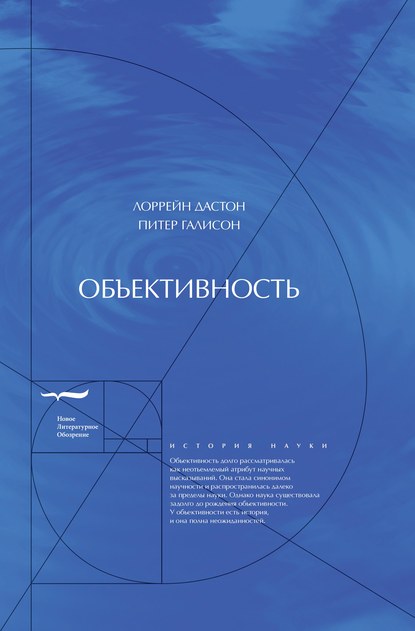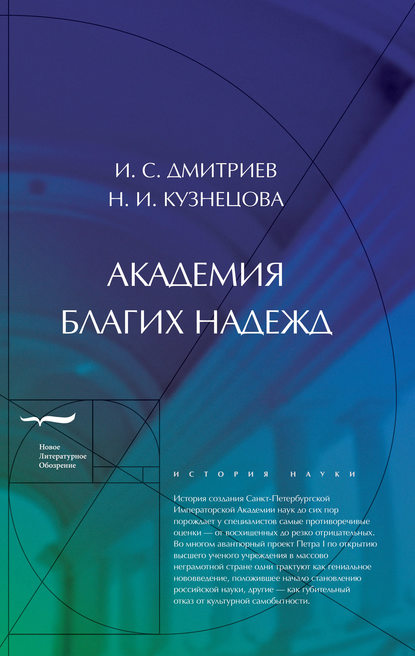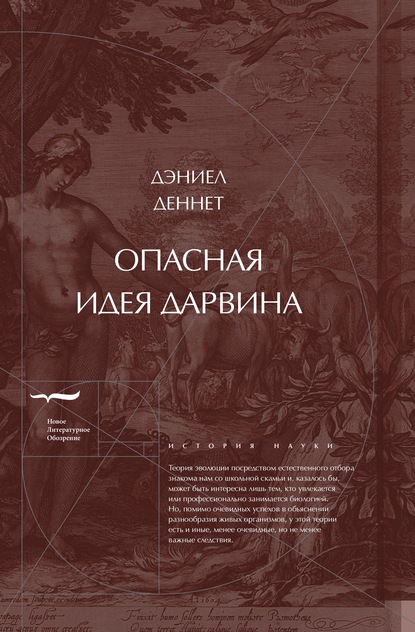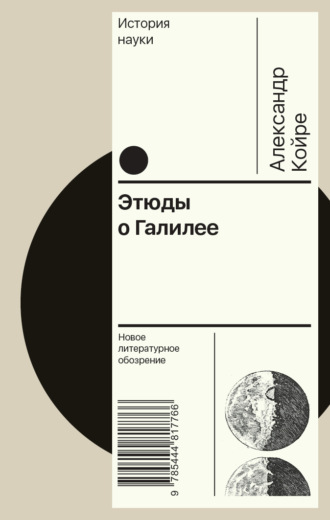
Полная версия
Этюды о Галилее
Не-неприятие и даже весьма большую вероятность этих «случаев» можно объяснить
примером из геометрии, который, изображая скорости с помощью линий, а непрерывное течение времени – с помощью равномерного движения другой линии, показывает нам, что степеней скорости действительно может быть бесконечно много.
В основе этого странного рассуждения, очевидно, лежит то, что оно, по сути, пытается доказать, и, кроме того, оно допускает как само собой разумеющееся, что тела, падающие с определенной высоты, всегда достигают одной и той же степени скорости, каким бы ни был путь, по которому они следовали, – перпендикулярным или наклонным334.
«Диалог…» – произведение, которое едва ли можно назвать вполне научным335, – ловко обходит проблему непрерывности. Однако в «Беседах…» попытки возобновляются; в самом начале Книги II третьего дня, содержащей анализ ускоряющегося движения, друг Галилея, Сагредо, обращается к нему со следующим возражением:
Сагредо. – Что до меня, то хотя я и не могу возразить этому определению доводами разума – ни какому-либо иному, которое бы предложил какой-либо автор, поскольку все они произвольны – я считаю, что мы, не желая никого обидеть, вполне можем сомневаться в том, что такое определение, мыслимое и допустимое in abstracto336, применимо, соответственно и характерно для такого типа естественного движения, которое совершают падающие тяжести. И коль скоро мне кажется, что мы подтвердили, что естественное движение тяжелых тел таково, как гласит наше определение, я хотел бы, хотя я и лишен некоторой тревожащей ум щепетильности, по мере своих сил, приняться после этого с большим вниманием за положения и их доказательства337.
Совершенно ясно, что на кон поставлены права математики в естествознании. Сагредо хорошо известно, что в чистой геометрии или в чистой кинематике мы имеем право говорить о бесконечной последовательности – дробных – величин, заключенных между нулем и некоторым числом, мы даже не имеем права поступать никак иначе. Но по какому праву мы переносим эти абстрактные рассуждения из области математики в действительность? Сагредо далее продолжает338:
Я представляю тело, падающее из состояния покоя (т. е. состояния, в котором оно лишено всякой скорости); я представляю, что оно приходит в движение и, находясь в нем, падает, ускоряясь пропорционально времени, которое проходит с первого момента движения; например, за восемь ударов пульса получится восемь степеней скорости, из которых четыре – лишь за четыре удара, два – за два, один – за один; однако, так как время бесконечно делимо, отсюда следует, что, если предыдущая скорость всегда уменьшается в том же отношении, не будет степени скорости настолько малой или замедления настолько большого, что оно не находилось бы в движущемся предмете с того момента, когда он покидает бесконечное замедление – т. е. покой. Как следствие, если степень скорости, которой движущееся тело обладает после четвертого удара пульса, такова, что если бы эта скорость оставалась равномерной, то тело прошло бы две мили за один час, и если со степенью скорости, которой оно обладало бы в начале второго удара пульса, тело прошло бы одну милю за один час, то отсюда следует, что в моменты, все более и более близкие к первому моменту движения, которому предшествовал покой, тело двигалось бы настолько медленно, что, продолжай оно двигаться с такой же скоростью, оно не прошло бы милю ни за час, ни за день, ни за год, ни за тысячу лет; и оно не прошло бы даже расстояния, равного длине ладони, за еще больший промежуток времени. Похоже, что наше воображение с большим трудом принимает этот аргумент339, тем более что чувственный опыт показывает нам, что падающий груз сразу приобретает большую скорость.
Приводя аргумент против абстрактного рассуждения о движении, Сагредо обращается к свидетельству опыта. И тем же самым ему отвечает Галилей340 – он также обращается к опыту, точнее, предлагает провести опыт341:
[И]менно в этом заключается одна из сложностей, которые мне также сперва не давали покоя. Но я разрешил их чуть позднее – благодаря тому же опыту, который породил решение в вашем уме. Опыт показывает, говорите вы, что как только тело покидает покой, оно обретает весьма заметную скорость; я же говорю, что этот же самый опыт показывает нам, что первые импетусы движущегося тела, каким бы тяжелым оно ни было, очень медленные и очень слабые. Поместите тело на мягкую поверхность, и пусть оно продавит ее, насколько позволяет одна только его тяжесть; ясно, что если поднять тело на высоту локтя или двух и затем отпустить его так, чтобы оно упало на ту же поверхность, то оно произведет своим ударом новый отпечаток, который будет больше, чем тот, что оно сделало только за счет своего веса; и этот эффект будет произведен благодаря (сложению веса) падающего тела и скорости, полученной при падении342; эффект будет тем больше, чем больше будет высота падения, т. е. чем больше будет скорость падающего тела. Как следствие, скорость падающего тела, несомненно, может быть оценена по качеству и интенсивности удара. Однако, если уронить груз на кол с высоты двух локтей, он не произведет большого эффекта, и еще меньший эффект будет, если он упадет с высоты одного локтя, и еще меньше – если с высоты в ладонь; наконец, если груз упадет с высоты, равной длине пальца, произведет ли он больший эффект, чем если бы он покоился на коле? Конечно же, эффект будет ничтожным и совершенно не воспринимаемым, если бы груз подняли на толщину листа. И коль скоро эффект удара зависит от скорости тела при столкновении, кто станет сомневаться, что там, где его действие невозможно воспринять, скорость была бы более чем минимальной, а движение – более чем совершенно медленным. Следовательно, сила истины такова, что один и тот же опыт, который на первый взгляд, казалось бы, доказывает одно, при более внимательном рассмотрении убеждает нас в обратном.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Содержательных различий между двумя изданиями практически нет; окончательный текст на русском языке сверен с изданием 1966 года.
2
Duhem P. Le Système du Monde. Histoire des Doctrines cosmologiques de Platon à Copernic. 10 vols. 1913–1959; Études sur Léonard de Vinci, 1906–1913.
3
Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 8.
4
Koyré A. Trois leçons sur Descartes. Le Caire, Editions de l’Université du Caire, 1938.
5
Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. М., 2001.
6
Койре А. Очерки истории философской мысли: О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. М., 1985.
7
См. также замечательный очерк: Enriques F. Signification de l’histoire de la pensée scientifique. Paris, 1934.
8
Понятие и термин «интеллектуальная мутация» (mutation intellectuelle) заимствованы у Гастона Башляра (Bachelard G. Nouvel Esprit scientific. Paris, 1934; рус. пер.: Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987). См. также: Bachelard G. La formation de l’esprit scientifique. Paris, 1938.
9
В свете научной революции последнего десятилетия кажется предпочтительней сохранить за ней эпитет «нововременная» и называть доквантовую физику «классической».
10
Эту довольно широко распространенную концепцию не следует путать с концепцией Бергсона, для которого все физические теории – как аристотелевская, так и ньютоновская – в конечном итоге являются творениями homo faber.
11
Laberthonnière V. Etudes sur Descartes. Vol. II. Paris, 1935. P. 288–289, 297, 304: physique de l’exploitation des choses («физика использования вещей»).
12
То, что «Бэкон – родоначальник науки Нового времени», – это насмешка (причем довольно плохая), которую до сих пор повторяют в учебниках. На самом деле Бэкон вовсе никогда не разбирался в науке. Он был очень легковерен и совершенно лишен критического мышления. Его склад ума куда ближе к алхимии, магии (он верил в «теорию симпатий») – одним словом, ближе к примитивному мышлению или к мышлению человека эпохи Возрождения, нежели к галилеевскому или даже к схоластическому мышлению.
13
Картезианская и галилеевская наука, несомненно, извлекала пользу из деятельности инженеров и, насколько известно, с успехом использовалась в механике. Но она не была создана механиками и не была создана ради механики.
14
«Декарт – ремесленник» – такова идея картезианства, продвигаемая М. Леруа в книге «Descartes social» (Paris, 1931) и доведенная до абсурда Ф. Боркенау в его работе «Der Untergang feudalen zum bürgerlichen Weltbild» (Paris, 1933). Боркенау объясняет формирование картезианской философии и науки через появление новой формы производства, а именно мануфактуры; см. критику работы Боркенау (куда более познавательную, чем сама эта работа), предложенную Г. Гроссманом: Die gesellschaftlichen Grundlagen der mechanistischen Philosophie und die Manufaktur // Zeitschrift für Sozialforschung. Vol. IV. Paris, 1935. S. 161–231.
Что касается Галилея, то именно к традиции ремесленников, строителей и инженеров эпохи Возрождения его относит Л. Ольшки (Geschichte der neusprachlichen wissenschaftlichen Literatur. Vol. 3. Galilei and seine Zeit. Halle, 1927; рус. пер.: Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. Т. 3. Галилей и его время. М., 1934). Если он прав в том, что инженеры и ремесленники Возрождения многое сделали для избавления от ярма аристотелизма, даже если они порой предпринимали попытки (как Леонардо да Винчи или Бенедетти) развить новую, антиаристотелевскую теорию динамики, которая, как показывает Дюэм, имела много общих черт с теорией динамики парижских номиналистов. И если Бенедетти – едва ли не самый выдающийся из предшественников Галилея – порой выходит за пределы «парижской» теории динамики, то это не благодаря трудам инженеров и ремесленников, а за счет его знакомства с трудами Архимеда.
15
Галилей-экспериментатор часто противопоставлялся Декарту-теоретику. Как мы увидим дальше, это предположение ошибочно. См. наш доклад на IX Международном конгрессе по философии: Galilée et Descartes // Travaux du IXe Congrès International de Philosophie. T. II. Paris, 1937. P. 41–46.
16
Так, никто никогда не наблюдал инерциальное движение – по той простой причине, что это возможно лишь при нереализуемых условиях. Эмилем Мейерсоном уже было отмечено (Identité et Réalité. Paris, 1926. P. 156; рус. пер.: Мейерсон Э. Тождественность и действительность: Опыт теории естествознания как введение в метафизику. СПб., 1912), насколько мало опыт согласуется с принципами классической физики.
17
Это решение соответствует возобновлению главенства бытия над становлением.
18
См. в первую очередь: Duehring E. Kritische Geschichte der allgemeinen Principien der Mechanik. Berlin, 1875. S. 24 sq. (рус. пер.: Дюринг Э. Критическая история общих принципов механики. СПб., 1893).
19
См.: Lasswitz K. Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newton. Hamburg und Leipzig, 1890. Bd. II. P. 23 sq.
20
Wahl J. L’idée de l’instant dans la philosophie de Descartes. Paris, 1920.
21
Знаменитое выведение закона свободного падения тел, предложенное Галилеем, на самом деле заключается в чисто кинематическом исследовании наиболее простой формы ускоряющегося движения, и в нем не проблематизируются ни понятия силы, ни массы, ни притяжения; см. далее: «Закон свободного падения тел».
22
См.: Cassirer E. Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neuer Zeit. Berlin, 1911. Bd. I. S. 394 sq.; но уже Lasswitz K. Geschichte der Atomistik; Mach E. Die Mechanik in ihrer Entwicklung. Leipzig, 1921. S. 117 sq. (рус. пер. см.: Мах Э. Механика: Историко-критический очерк ее развития. Ижевск, 2000) и Wohlwill E. Die Entdeckung des Beharrungsgesetzes // Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. Vol. XIV (1883). P. 365–410; Vol. XV (1884). S. 70–135.
23
К этому пункту весьма резонно пытался привлечь внимание Э. Мейерсон (Identité et Réalité. P. 124 sq.).
24
В этом смысле крайне любопытно было бы сопоставить Галилея и Кеплера. Кеплер еще относится к тем, кто стремится построить космологическую концепцию, Галилей – нет. См.: Kepler J. Dissertatio cum Nuntio Sidereo // Le opere di Galileo Galilei. Edizione nazionale. Vol. III. Parte prima. Firenze, 1892. P. 97 sq. Ср. с: Koyré A. Rapport // Annuaire 1935–1936. École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses. Paris, 1934. P. 64–70.
25
«Действительно, эта теория динамики, казалось бы, весьма удачно подстроилась под текущие наблюдения, которые она не могла не принять с самого начала, а также – под допущения первых мыслителей, которые рассуждали о силах и движениях… Намереваясь отбросить динамику Аристотеля и построить новую теорию движения, физики непременно должны были понимать, что явления, ежедневно наблюдаемые ими, – вовсе не простые, элементарные факты, к которым фундаментальные законы динамики непосредственно должны применяться; что перемещение судна, которое тянут бурлаки, и езда запряженной повозки по дороге должны рассматриваться как движения крайне сложные. Одним словом, они должны были понимать, что для формулирования принципов динамики необходимо абстрагированно представлять себе предмет, который, находясь под действием некой конкретной силы, движется в пустоте. Хотя, исходя из своей динамики, Аристотель пришел бы к заключению, что подобное движение немыслимо» (Duhem P. Le système du monde. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon a Copernic. Tome I. Paris, 1913. P. 194–195).
26
Caverni R. Storia del metodo sperimentale in Italia. 5 Vol. Firenze, 1891–1896. Прежде всего vol. III–IV.
27
Duhem P. Le mouvement absolu et le mouvement relative. Paris, 1905; De l’accélération produite par une force constant // Congrès international d’histoire des sciences. III-e session. Genève, 1906; Etudes sur Léonard de Vinci. Ceux qu’il a lus et ceux qui l’ont lu. Vol. III. Les Précurseurs parisiens de Galilée. Paris, 1913.
28
Как нам кажется, итог научным исканиям XVI века подводят именно восприятие и постепенное освоение трудов Архимеда. Расхожее понятие «Возрождение» как нельзя более кстати применимо к истории научной мысли.
29
См.: Duhem P. Études sur Léonard de Vinci. 3 vol. Paris, 1909–1913; Dijksterhuis F. J. Val en worp. Een bijdrage tot de geschiedenis der Mechanica van Aristoteles tot Newton. Groningen, 1924; и Borchert E. Die Lettre von der Bewegung bei Nicolaus Oresme («Beitràge zur Geschichte der Philosophie und Théologie des Mittelalters». Vol. XXX). Munster, 1934.
30
Некоторые утверждают (см.: Mach E. Die Mechanik. Leipzig, 1921. S. 118 sq., и Wohlwill E. Galilee und sein Kampf für die Kopernikanische Lehre. Hamburg und Leipzig, 1909. Vol. I. S. 115), что в своих юношеских работах (в частности, в De Motu), написанных в Пизе, Галилей лишь проявляет себя как последователь учения Джoванни Баттисты Бенедетти, причем не называя его имени (ср. с его работой: Diversarum speculationum mathematicarum et physicarum liber (Турин, 1585). Это утверждение, как нам предстоит увидеть чуть далее, не совсем справедливо: хотя он и следует Бенедетти (что, помимо прочего, объясняется тем, что идеи Бенедетти, так же как и идеи молодого Галилея, представляют собой странную помесь «эмпиризма» Парижской школы и архимедовского математизма), иногда Галилей отходит от идей Бенедетти, причем всегда делает это небезосновательно. Т. е. в этих случаях он проявляет себя как более убежденный «эмпирик» и более убежденный последователь Архимеда, чем Бенедетти. Именно благодаря этому факту изучение Галилея оказывается столь полезным.
31
Le opere di Galileo Galilei. Edizione nazionale. Vol. 1. Firenze, 1890. P. 15–177. (Далее национальное издание собрания сочинений Галилея под редакцией А. Фаваро будет обозначаться «Le opere» с указанием номера тома и страниц. – Примеч. ред.)
32
Bonamici F. De motu. Libri X. Quibus generalia naturalis philosophiae principia summo studio collecta continentur… (Флоренция, 1591). Труд Бонамико часто упоминается биографами Галилея. Тем не менее похоже, что никто из них, ни даже Фаваро и Вольвиль, не отважился открыть гигантский том, насчитывающий 1011 страниц in folio.
33
В этом отношении неудача Дюэма, который был единственным, кто всерьез пытался вернуть ее к жизни, является весьма показательной.
34
Физика Аристотеля принципиально нематематическая, более того, ее невозможно описать математически, не извратив при этом ее сущность (например, представив ее как основанную на принципе, согласно которому скорость пропорциональна силе и обратно пропорциональна сопротивлению – это пропорциональное отношение является лишь следствием из принципов, установленных Аристотелем).
35
Уже давно было отмечено, что бога тяжести никогда не существовало.
36
См.: Mach E. Die Mechanik. Leipzig, 1921. S. 124 sq. (рус. пер.: Мах. Э. Механика: Историко-критический очерк ее развития. Ижевск, 2000).
37
Можно даже сказать, что величие Аристотеля заключается уже в самом стремлении объяснить «естественные» явления.
38
Любопытно, что понятия Космоса и Вселенной (в смысле «тотальности»), полностью утратившие свой смысл в классический период истории физики, по-видимому, вновь приобрели его во времена Эйнштейна.
39
Лишь находясь на «своем месте», вещь является завершенной и самодостаточной, и именно поэтому она стремится к этому месту.
40
Идея «естественного места» подразумевает конечность движения и, следовательно, конечность мира. Или, если угодно, понятие естественного места выражает идею ограниченности мира.
41
Движение вверх доказывает конечность мира: см. ниже, критика Галилея.
42
Геометрический порядок вне сферического, замкнутого мира соответствует качественному порядку (тяжелое – легкое), само собой разумеется, что движения, насильственные или естественные, состоят в удалении или приближении тел по отношению к их естественным местам; очевидно также, что эти два типа движения являются противоположными (ср.: Galileo G. Le opere. Vol. I. P. 61 sq.).
43
Движение может быть произведено не иначе как посредством другого движения, каждое происходящее движение подразумевает бесконечную последовательность предшествующих причин.
44
Круговое движение является единственным единообразным движением, которое может длиться бесконечно в конечном мире и которое также (если мы приписываем его целой небесной сфере) ничего не изменяет, и, значит, оно является наиболее близким к естественному состоянию. Кроме того, последователи Аристотеля либо пытались доказать естественный характер кругового движения для всех тел вообще, не только для небесных тел, что в итоге привело к динамике Коперника, либо, как Галилей, превратно понимая Аристотеля, стремились доказать, что круговое движение «вокруг центра» не является ни насильственным, ни естественным, поскольку «в круговом движении тела ни отдаляются от центра, ни приближаются к нему» (ср. 91).
45
Движение, таким образом, это нечто, что действует на движимый предмет и что протекает в нем. Таким образом, ясно, что для движущегося тела свойственно лишь одно естественное движение, и если тело претерпевает два различных движения – естественное и насильственное, то эти два движения производят друг друга.
46
Распространено представление, что в аристотелевской физике ключевую роль играют биологические категории. Наверняка это справедливо: эту идею движения можно понимать как метафору той промежуточной стадии, которую занимает жизнь между неизменностью духа и неподвижностью смерти; такая интерпретация, на наш взгляд, упускает из виду тот факт, что различие между состоянием и процессом (бытием и становлением) является абсолютно общим и относится не только к животным сущностям.
47
В средневековых диспутах (в высшей степени сложных) о природе движения оно понималось, как правило, как некая специфическая форма – forma fluens («изменчивая форма» – лат.). См. цитируемые здесь работы Дюэма, Дейкстерхойса, Борхерта, а также: Moser S. Grundbegriffe der Naturphilosophie bei Wilhelm von Occam («Philosophie und Grenzwissenschaften». Vol. IV. Facs. 2–3). Innsbruck, 1932.
48
Таким образом, перемещение всегда является одновременно и относительным, и абсолютным: относительным по отношению к ничто, как абсолютное движение Ньютона; абсолютным – поскольку «места» между началом и концом движения формируют абсолютную систему принципиально неподвижных границ.
49
Аристотель совершенно прав. Никакой процесс (становление) не длится по инерции. Но движение длится именно потому, что оно не является процессом.
50
В физике Аристотеля нет силы притяжения.
51
Строго говоря, с точки зрения механики других видов действительно нет. Cр. далее: Meyerson E. Identité et Réalité. P. 84 (рус. пер.: Мейерсон Э. Тождественность и действительность: Опыт теории естествознания как введение в метафизику. СПб., 1912).
52
Теория Аристотеля настолько безупречна, что она будет воспроизводиться и использоваться вплоть до XVII века, в частности Декартом и Гюйгенсом.
53
Ср.: Платон. Тимей. 79b.
54
Теория Аристотеля объясняет длительность такого движения как вихревой процесс в среде, окружающей движущееся тело, которая воздействует на последнее, передвигая и проталкивая его. Теоретическая «уловка» заключается в том, что среде приписывается способность совершать движение; на современном языке это «плотная среда», воздух. Ср.: Аристотель. Физика. Книга IV. Гл. 8. 215a; Книга VIII. Гл. 10. 267a.
55
История этого спорного вопроса описана у Дюэма. См.: Duhem P. Etudes sur Léonard da Vinci. Paris, 1909–1913.
56
Как мы помним, невозможность пустоты является также положением картезианской физики. Декарт в этом пункте (впрочем, как и во многих других) оказывается на стороне Аристотеля, против Галилея.
57
Идея движения с бесконечной скоростью, мгновенного перемещения тела из одной точки в другую действительно абсурдна.
58
В однородном геометрическом пространстве все «места» являются одинаковыми и перемещение не производит ничего нового.
59
Как известно, Аристотель очень враждебен ко всякого рода жанровым смешениям: геометру не должно думать как арифметику, так же как физику не должно думать как геометру. Это требование вполне справедливо: раз уж «жанры» существуют, нельзя их смешивать. Но можно их вовсе устранить.