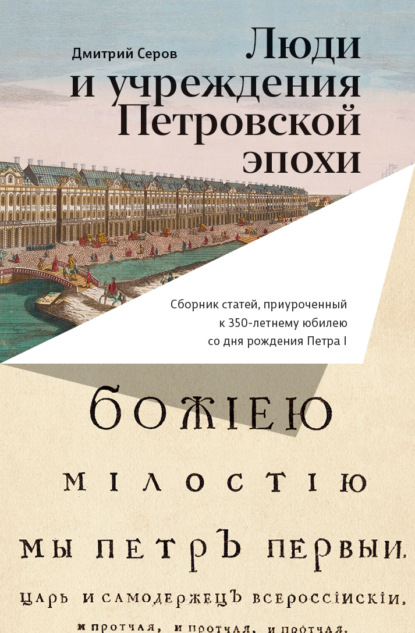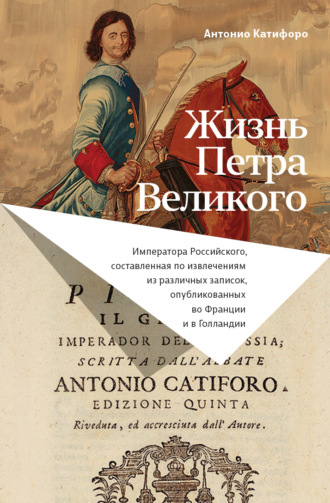
Полная версия
Жизнь Петра Великого
Произошедшее заставило царя отказаться от удовольствия посетить прекраснейший край Европы. Благодаря глубине героического своего ума Петр уразумел, что в гражданских неурядицах нельзя терять времени: Nihil in discordiis civilibus festinatione tutius, ubi facto magis, quam consulto opus est488 489. Оставив в Вене г-на Возницына в качестве полномочного представителя490 в Карловицком конгрессе [Congresso di Carlowitz]491, Петр с остальными своими спутниками492 пустился в обратный путь в свое отечество: он прибыл туда так скоро493 и в такой строгой тайне, что в Москве его увидели раньше, чем услышали о его прибытии. Первым делом он наградил солдат, сражавшихся с мятежниками494. На следующий день он повелел привести к себе предводителей заговора и, самолично рассмотрев их дела, утвердил уже вынесенный им приговор495. Одним отрубили головы, других колесовали496; немалое число стрельцов похоронили заживо497. Две тысячи стрельцов обезглавили498, и головы их были выставлены на городских стенах, их дома сровняли с землей, а самое имя стрелецкое навсегда запрещено во всей Российской империи. Те из стрельцов, чья вина была менее значительна499, были сосланы в Сибирь, в Астрахань и Азов с женами и детьми. Святость духовного сана не избавила от наказания тех служителей Церкви, кто участвовал в заговоре. Тогда в Москве было колесовано и обезглавлено не только немалое число священников и монахов, но и несколько игуменов и епископов500. Г-н Перри добавляет, что царь тогда «приказал посадить на кол самого Патриарха России»501. Однако этот англичанин заблуждается в этом своем суждении, как и во многих других. Патриарх Московский был в то время глубоким стариком, к которому царь Петр питал глубокое почтение. Его звали Адриан, и он умер своей смертью в 1702 году502, о чем свидетельствуют хроники московитов – сам же г-н Перри упоминает об этом в своем сообщении на странице 350503. Чистая правда, что царь, занятый в то время войной с королем Швеции, приказал отложить избрание нового патриарха, а потом и вовсе упразднил этот сан в своем государстве, но неверно, что «он сам объявил себя главой и правителем своей Церкви», как рассказывает нам г-н Перри: царь оставил попечение о делах Церкви ее иерархам, которые, однако, все признавали власть над собой своего государя в делах мирских. Ведь Восточная Церковь никогда не признавала, что духовные лица не подлежат юрисдикции светского государя: напротив, как низшее духовенство, так и все епископы и даже Патриархи неизменно видели в нем своего покровителя и защитника – как их самих, так и церковного имущества.
Не будет неуместным кратко рассказать о том, как было учреждено в Московии патриаршество. В России, несмотря на ее огромные размеры, всегда было совсем немного иерархов: во всей стране насчитывалось не больше тридцати епископов, архиепископов и митрополитов. Среди них первенствовала Киевская митрополия – до 1589 года, когда Патриарх Константинопольский Иеремия, будучи в Москве, по просьбе царя Федора Ивановича издал грамоту, согласно которой «столичный град сего царства должен отныне стать патриаршей кафедрой и что архиепископ сего града должен отныне носить титул патриарха и будет поминаться вслед за Патриархом Иерусалимским». Первого носителя этого сана звали Иовом [Giab]504, а десятого, ставшего также последним, Адрианом, о чем подробнее можно прочитать у Хрисанфа, иерусалимского Патриарха505, в трактате «De officiis Sanctae Christi Ecclesiae»506 на 73‐й странице валашского издания. К фигуре Патриарха московиты питали такое почтение, что во время некоторых обрядов сами цари не считали ниже своего достоинства держать ему стремя, когда тот садился в седло. Петр Великий счел политически целесообразным упразднить патриарший сан, который его предшественники так стремились учредить в своей столице. Однако позднее он повелел создать в Петербурге некое подобие Римской курии [Sant’Offizio], в Московии именуемое Синодом и состоящее из двенадцати прелатов, самых просвещенных во всем государстве, которое ведает всеми вопросами религии. Я счел целесообразным сделать это маленькое отступление из‐за г-на Перри, который, будучи плохо осведомлен об этом предмете, пускается в тысячу глупостей и среди прочего распространяется о том, что «Патриарх Константинопольский (которого этот автор по ошибке называет Иеронимом [Gerolimo507] вместо Иеремии [Geremia]) отказался от своего патриаршего сана в пользу Московской митрополии, который благодаря этой уступке сделался верховным пастырем и главой Греческой Церкви»508. Оставив в стороне бредни этого английского инженера, возвратимся к нашему предмету.
Расправившись с такой суровостью (необходимой в стране, которая до сих пор не избавилась от врожденной дикости) с врагами своего правления, царь устранил основные препятствия на пути задуманных им преобразований, для которых он собирал материал во время своих путешествий. Прежде всего, он ввел во всей армии военную дисциплину по немецкому образцу и облачил всех солдат в униформу: некоторое различие в цвете формы соблюдалось только на парадах. Затем он повелел составить именную роспись всех дворян своего государства, владевших значительным состоянием и не состоявших на службе. Часть из этих людей он обязал присоединиться к армии в качестве добровольцев, других отправил исполнять различные обязанности на флот. Сам же царь, поспешив в Воронеж, к своему большому удовлетворению увидел, что строительство кораблей и галер идет полным ходом. Он вновь приказал работать как можно тщательнее и быстрее.
Возвратившись в Москву, Петр позаботился о том, чтобы привести в порядок внутренние дела. Проводить реформы в этой области было весьма нелегко, потому что все таможни и предприятия, приносившие доход, находились в руках дворян, которые, хотя и назывались обыкновенно «рабами царя», отнюдь не были столь склонны к повиновению: царям приходилось проявлять большую осторожность и искусство в обращении с ними. Существовал обычай, согласно которому вельможи высшего ранга имели в провинциях такую власть, каковой обладал сам царь надо всем государством. Они обладали властью как над жизнью, так и над имуществом своих подданных: не подчиняясь никаким законам, кроме собственного произвола, они мало заботились об отправлении правосудия, и народ обыкновенно страдал от угнетения. Каждый из этих синьоров назначал в провинции, верховным правителем которой он был, еще одного, вторичного, правителя с титулом воеводы [Voivoda]509. У главного правителя в Москве была канцелярия, ведавшая делами его провинции510, а у воеводы была еще одна, находившаяся в самой управляемой им области, в которой вершился суд как по гражданским, так и по уголовным делам, а также по финансовым вопросам. Провинциальная палата была обязана докладывать в Москву обо всем происходящем в провинции, однако местные чиновники прекрасно умели делать это в той форме, которая была им удобна, а губернаторы в основном заботились не о том, чтобы как следует разбираться в делах, а о том, чтобы вытянуть деньги из воевод. Последние не получали за свою службу жалованья: наоборот, они нередко платили тысячи скудо511, чтобы получить свою должность. Хотя на эту должность они назначались не более чем на три года, даже за это время они успевали здорово обогатиться. Легко себе представить, как должен был страдать народ под таким управлением. Дабы найти подходящее средство против столь большой напасти, царь Петр установил во всем государстве форму правления, сходную с той, которую мог наблюдать в хорошо управляемых государствах: он взял на себя назначение как губернаторов, так и их заместителей. И тех и других он полностью лишил контроля над финансами и для этой цели создал Камер-коллегию [Camera di Finanze]512, на которую были возложены функции собирания налогов и контроля отчетности, представляемой сборщиками. Таким образом, налоги были направлены в государственную казну, и народ был избавлен от множества притеснений513.
Петр добился значительного увеличения общественного благосостояния, обложив налогами все монастыри государства сообразно размеру их имущества. Одновременно всем настоятелям монастырей был разослан строгий приказ, в соответствии с которым в дальнейшем к принятию монашеского сана могли допускаться только лица, достигшие возраста пятидесяти лет. Эта реформа имела две цели. Во-первых, благодаря ней в распоряжение государства поступило множество молодых людей, которые далеко не всегда принимают постриг ради служения Богу. Во-вторых, благодаря уменьшению численности братий во владение царя перешла бóльшая часть монастырских доходов: монастырям осталось лишь самое необходимое для поддержания существования немногочисленных монахов514.
После этих преобразований, касавшихся управления государством, Петр решил изменить также внешний вид своих подданных и платье, которое они носили. Ему казалось, что с теми принципами цивилизованности и вежества, которые он хотел принести в свою страну, не согласуется ношение бороды, которую московиты всех сословий носили и о которой тщательно заботились, подобно тому как это еще и до сих пор делают все восточные народы. Поэтому он приказал дворянам, купцам и мастеровым людям сбрить бороды под угрозой штрафа, составляющего полную сумму годовой подати515. Невозможно передать, какое смятение породило в душах этих людей новое повеление, которые многие сочли чудовищным злодеянием, грозящим уничтожением религии, – и это несмотря на то, что Петр предусмотрительно отметил в своем указе, что духовным лицам будет позволено сохранить бороду: как для того, чтобы отличаться от мирян, так и для того, чтобы служители Церкви могли сохранить тот солидный вид, который придавала им борода. Среди московитов нашлись и такие, что, сбрив бороду из послушания царю, сохранили ее как ценную реликвию, которую завещали положить вместе с собой в гроб, словно боясь, что без нее их не пустят в Царствие Небесное. Затем он издал специальный указ для дворян и всех, занимающих какую-либо должность при дворе, а также их жен, в котором им предписывалось одеваться на французский манер, и добавил к этому распоряжение впредь приглашать женщин наравне с мужчинами на свадебные торжества, пиры, балы и праздники, тем самым отказавшись от бытовавшего в России, как и во всех других восточных странах, обыкновения скрывать женщин от глаз мужчин. Ведь прежде браки обыкновенно заключались одними лишь родителями, а будущие супруги друг друга даже не видели: царь же приказал, чтобы отныне жениху дозволялось познакомиться с невестой как минимум за месяц до заключения брака.
Оставалось устранить тот беспорядок, который был связан с челядью знатных людей. Ни один боярин не выходил из дома без сопровождения большой свиты из слуг, облаченных в одежды различных цветов, следовавших за ним медленной поступью. Чтобы исправить этот дурной обычай, царь не стал издавать никакого специального приказа: он предпочел воспитать людей собственным примером – средством более эффективным, чем любой закон. Он начал появляться на улице в сопровождении всего лишь двух или трех денщиков, всегда быстрым шагом. Этого было достаточно, чтобы все последовали примеру своего государя: Haec conditio Principum est, ut quidquid faciant, praecipere videantur516. Бояре избавились от лишних слуг, и царю удалось привлечь в свою армию значительную часть этих людей, которые прежде праздно проводили время в частных домах.
Эти перемены были проведены не сразу и совсем не так легко, как об этом рассказывают. Хотя московиты и называли себя рабами своего государя, они были также, как и большинство людей, скорее рабами своих обычаев и предрассудков. Поэтому понадобился весь героический пыл Петра Великого, чтобы претворить в жизнь подобные реформы.
Нельзя обойти здесь молчанием то, что сделал этот великий государь для того, чтобы показать, какой почет он оказывает тем подданным, которые подобающим образом служат его двору. Пока Петр был в Воронеже, куда он отправился, чтобы, как мы уже сказали выше, чтобы лично проследить за строительством кораблей, в Москве 12 марта 1699 года в возрасте сорока шести лет умер г-н Лефорт517. Получив это известие, Петр тотчас оставил все дела и отправился в обратный путь в Москву с такой поспешностью, что за пятьдесят четыре часа преодолел немногим меньше трехсот миль518, и почтил своим присутствием погребение своего заслуженного министра, обустроив эту церемонию со всей возможной торжественностью519. Так как после его смерти должность великого адмирала, которую царь ему пожаловал прежде, чем поставить во главе Великого посольства, оказалась вакантной, Петр назначил на нее генерала Головина, еще одного участника посольства, в то время как господин Возницын, третий их коллега, находился в то время в Карловицах, где в предыдущем, 1698 году был заключен договор о двухлетнем перемирии с Портой520, которое сделало возможным установить полный мир. В следующем, 1699 году при посредничестве короля Вильгельма, одновременно носившего сан английского суверена и статхаудера Голландии, между Россией и Портой был заключен мир на тридцать лет. По его условиям под полную власть царя переходил Азов и другие места, покоренные им на морских берегах.
Конец второй книгиКНИГА ТРЕТЬЯ
Царь начинает войну со Швецией и осаждает Нарву. Шведы наносят московитам поражение под Нарвой. Переговоры царя с королем Августом в Бирже. Царь отправляет посольство к королю Датскому и еще одно – в Республику Польскую. Пожар в Москве. Московиты разбивают шведов под Псковом: еще один отряд шведов разбит на реке Эмбах 521 . Нотебург 522 и окрестные города взяты московитами. Триумфальный вход царя в Москву. В ходе следующей кампании царь завоевывает Ингрию 523 и закладывает Петербург. Он осаждает город Дерпт и берет его, а также занимает Нарву. Еще одна блестящая победа московитов над шведами. Войска царя в Литве завоевывают это герцогство. Реншильд наносит поражение Шуленбургу. Король Август отказывается от польской короны из страха перед Карлом, королем Швеции. Московиты наносят поражение еще одному шведскому корпусу под Калишем. Царь отправляет посла к папе с польскими делами. Ассамблея во Львове. Еще одна в Люблине. Обе ассамблеи распускаются из‐за разорения, учиненного войсками царя в польских землях.
Победы, одержанные царем над Оттоманской империей, но еще более преобразования и реформы, проведенные им в империи собственной, стяжали ему при всех европейских дворах такое почтение, что все единодушно согласились именовать его Великим524. Этот славный завоеватель и законодатель был наделен слишком живым духом, чтобы мог удержаться от свершения великих дел. Ему казались слишком узкими пределы в действительности весьма обширного его государства, он и стал неустанно искать способы их расширить. Так как на востоке он уже добился этой цели, присоединив к своим владениям важный город Азов и прилегающие к нему части побережья, то теперь он решил двинуться на запад. Изучая историю своей нации, Петр обнаружил, что Ингрия и Ливония525, некогда принадлежавшие России526, были силой присоединены к Швеции королем Густавом527. Этого было достаточно, чтобы зародить в его сердце желание, а в душе решимость отвоевать эти две области, тем более что он считал обладание ими абсолютно необходимым для осуществления своего плана построить на Балтике какой-нибудь порт528 и держать в нем большое число кораблей, как торговых, так и военных. Удобной возможностью добиться этой цели стала для него война, разгоревшаяся между Швецией и королями Дании и Польши. У Петра с обоими этими монархами были заключены договоры о дружбе и союзе. Поэтому он решил объявить о своей поддержке союзников в борьбе с королем Швеции. В то время Швецией правил Карл XII, славный своими победами не менее, чем неудачами529. Империи обыкновенно основываются не только силой доводов, сколько силой оружия: Imperia magis armis, quam jure constituuntur530. Войны же обыкновенно происходят из желания господства: Bellorum causa dominandi libido531. Именно поэтому среди правителей существует обычай скрывать эту свою врожденную страсть, и они публикуют разного рода манифесты, где приводят различные основания, побудившие их взяться за оружие. Царь, желая и в этом подражать обычаям других европейских дворов, опубликовал целый ряд манифестов, в которых изложил мотивы, заставившие его объявить войну королю Швеции.
Мотивы эти сводились главным образом к следующему: «1) царь был другом и союзником Дании и короля Августа, и он не мог оставить без отмщения обиды, причиненные им королем Швеции; 2) Швеция покусилась посредством различных ухищрений нанести вред России, несмотря на мирный союз между двумя монархиями; 3) российский посол на обратном пути из Турции был ограблен ливонскими поселянами, подданными Швеции; 4) шведы учинили множество обид московскому почтмейстеру и московским купцам; 5) царь сердился, что с ним неподобающим образом обошлись в Риге, когда он за три года до того проезжал через этот город со своим Великим посольством: дворяне из его свиты содержались словно пленники, им не позволялось выйти из дома». Что касается этого последнего пункта, то царь представил свои протесты на дурное обхождение сразу же после возвращения из этого путешествия шведским послам, которые пребывали в то время в Москве. Король Швеции нимало не позаботился о том, чтобы оправдаться в этом вопросе532, и царь решил передать его на суд Генеральных штатов Соединенных провинций, которые взялись было изыскать способ удовлетворить его просьбу, не вызвав при этом гнева короля Швеции. Дело вроде уже налаживалось, когда стало известно, что царь, поддавшись на уговоры и королей Польши и Дании, объявил об их поддержке против Швеции и приказал своему послу в Стокгольме сделать краткое представление королю Швеции о мотивах, которые побудили его разорвать с ним отношения и немедленно покинуть этот двор533. Об этом своем решении он пожелал известить и европейские дворы.
В то время Карлу, королю Швеции, было восемнадцать лет, но он весь был как огонь и пламень. Увидев, что ему со всех сторон грозит опасность, он, нимало не испугавшись, решил лично возглавить борьбу со своими недругами, оставив в Стокгольме Регентский совет для управления государством. Под его началом было значительное количество войск, но, будучи рассредоточенными по разным местам, они не могли дать более двадцати тысяч солдат, правда, самых отборных из числа ветеранов. Шведы полагали, что московиты направят войска в Ригу для помощи королю Августу, который уже пытался осаждать этот город534, однако они узнали, что царь во главе большого войска появился под Нарвой, наиболее укрепленным городом в Ливонии535. В Нарве критически не хватало солдат, а полковник Горн [Orno]536, который командовал гарнизоном, имел в своем распоряжении не более двух тысяч людей, включая кавалерию. Вместе с тем в крепости было достаточно амуниции и продовольствия.
Следует признать, что послы Великобритании537 и Голландии неоднократно пытались отговорить царя Петра от этого предприятия538. Однако им ничего не удалось добиться. Напротив: царь, преисполнившись пыла, извлек из ножен саблю и поклялся «не вкладывать ее обратно до тех пор, пока не отомстит за королей Дании и Польши, своих союзников», добавив к этому, что «если две эти державы, от имени которых говорили послы, решили вмешаться в его дела, то он прекратит с ними все торговые отношения и конфискует все имущество подданных этих держав в своих владениях». Эта угроза заставила обоих послов умолкнуть, ведь они знали, что размер этого имущества достигает более семидесяти миллионов скудо. Преисполненный твердости духа, Петр выступил в поход и 4 октября 1700 года539 появился под Нарвой во главе армии из ста тысяч московитов540, не обученных, однако, воинской дисциплине, за исключением гвардии, числом в двенадцать тысяч отборных солдат541. Разбив лагерь и укрепив его возведенными по всем правилам валами, царь пожелал лично осмотреть город и, увидев, что укрепления его не в слишком хорошем состоянии542, стал не без оснований тешить себя надеждой, что сможет за несколько дней захватить его. Однако он совершил ошибку, решив начать осаду с Ивангорода [Juanogrod]543, соседней крепости, которую некогда построили россияне544, чтобы сделать его опорным пунктом для захвата Нарвы. Комендант этой крепости, хотя под началом его и было всего триста человек гарнизона, защищался так храбро, что дал возможность королю Швеции своевременно подоспеть на помощь Нарве545.
Пока этот юный монарх спешил на помощь осажденным, московиты понесли потерю, внесшую смятение в их ряды. Жители Дерпта, узнав, что конвой московитов, вышедший из Пскова, должен проехать близ Чудского озера [Lago Peipo], засели в засаду и внезапно их атаковали. Помимо денег и провизии, которые они там нашли, им удалось захватить штандарт этой провинции, бывший одной из главных регалий российского войска546. Этот успех столько внес смятения в ряды московитов, сколько укрепил мужество шведов: последние приняли его за доброе предзнаменование, первые же – за несчастливое и предвещающее непредвиденный провал. В то же время в лагере московитов распространился ложный слух, что пятьдесят тысяч человек, набранных в шведской Лапонии, уже готовятся напасть на Архангельск. Слух этот привел Петра в такое волнение, что он тотчас оставил армию и отправился лично организовывать оборону угрожаемой области547. Он справедливо рассудил, что государь не должен вести войну за пределами своего государства, если он не обеспечил безопасности собственным владениям. Qui foris bellum gesturus est operam det, ut domi omnia in tuto sint collocate548. Царю было чрезвычайно досадно покидать свое войско, ведь он надеялся вскоре помериться силами с Карлом в решающей битве. Он поручил командование армией генералу Шереметеву, приказав ему прежде всего сжечь склады, которые шведы устроили близ Веземберга [Vesemberga]549. Генерал с отрядом из шести тысяч всадников550 попытался исполнить приказ царя, но увидел, что склады надежно охраняются, и решил вернуться в лагерь, не вступая с бой со шведами551. На обратном пути он разорил всю округу Веземберга вплоть до осажденного города, так что шведская армия не могла найти ни фуража, ни крестьян, которых Шереметев забрал с собою. Эти меры замедлили продвижение шведов, и русские могли бы захватить Нарву, если бы у них было больше опыта.
К концу ноября552 король Карл появился в виду московитов, которые превосходили его войско в добрых четыре раза, но он, прекрасно спланировав атаку, провел ее с такой яростью, что московиты, которым их многочисленность скорее мешала, чем помогала, были смяты, преисполнившись страха и смятения. Генералы не могли ни вернуть их на позиции, ни остановить их бегство, начавшее принимать повальный характер. Под толпой беглецов рухнул мост, значительная их часть утонула, и генералам осталось только положиться на милость победителя, который захватил на поле боя огромное количество бронзовых пушек и армейскую казну в полном составе. Так королю Карлу с двадцатью тысячами солдат удалось в первом же бою наголову разбить армию из восьмидесяти тысяч россиян553. Урон составлял тридцать тысяч: часть солдат погибла в общей свалке, часть утонула в ледяных водах реки, а остальные попали в плен554. Хотя Карл, то ли из великодушия, то ли из стремления сэкономить припасы, или не желая, из политических соображений, держать при себе такое множество врагов, которые числом своим значительно превосходили его собственную армию, распустил всю эту злосчастную братию по домам, предварительно обязав их в его присутствии сдать оружие. В плену он оставил только высших офицеров, которые, однако, вскоре были освобождены за выкуп555.
На следующий день город Нарва, который иначе не продержался бы и двух дней, с ликованием встречал своего государя и освободителя556. Шведские войска, сопроводившие пленных россиян до границ, добавили к этой победе захват форта Питскур [Pitscur]557, крепости, отличавшейся выгодным местоположением и обороняемой гарнизоном в пять тысяч человек. Отряд шведского генерала насчитывал не более двух тысяч восьмисот человек. Несмотря на это, ему без труда удалось взять приступом эту крепость и проложить себе дорогу мечом, хотя он и потерял при этом бóльшую часть своих людей. Эта новая победа позволила королю Швеции развить успех558, и он стал готовиться к тому, чтобы в самом начале следующего года начать военную кампанию на территории России и одновременно вытеснить из Ливонии короля Августа.
Царь в это время возвращался из Архангельска, уяснив, что вторжение шведов из Лапонии оказалось чистым вымыслом, и вел с собой подкрепление из сорока тысяч человек: тогда-то он и получил известие о поражении под Нарвой559. Сочтя неразумным рисковать и ввязываться со столь малым числом солдат в бой с неприятелем, который, к тому же, был воодушевлен недавней победой, одержанной над еще более многочисленной армией, он решил отступить в Москву на зимние квартиры, чтобы наилучшим образом подготовиться к следующей кампании. В Москве народ, совершенно ничего не смысливший в военных делах, не мог понять, как король Швеции с таким небольшим войском мог разбить их собственную армию, гораздо более многочисленную. Клирики, столь же невежественные, как их паства, посчитали, что истинной причиной этого события было колдовство шведов, поэтому они возбуждали народ усердными молитвами просить о заступничестве прославленного епископа Мирликийского св. Николая, чтобы он, как главный покровитель России, защитил их от ярости этих колдунов. Царь, чей ум был более свободным от предрассудков и просвещенным, приписал это событие его подлинной причине, а именно неопытности своих солдат в военном искусстве, и нашел для себя утешение в том глубокомысленном изречении, которое впоследствии оказалось подлинным пророчеством. «Шведы, – сказал он, – некоторое время будут нас бить, но в конце концов благодаря полученным урокам мы научимся побивать их сами». И в самом деле: нет лучшей возможности изучить военное дело, т. е. искусство побеждать врагов, чем постоянно с этими врагами воевать. Militaris disciplina non tam ex libris, quam ex acie discitur560.