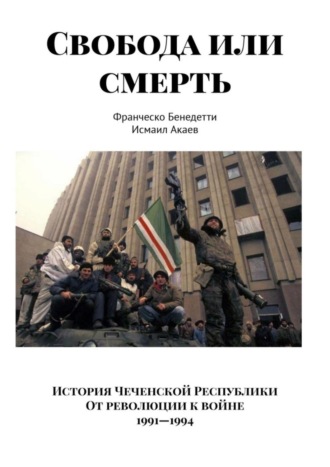
Полная версия
Свобода или смерть. История Чеченской Республики. От революции к войне. 1991–1994
В 1979 году Советский Союз вторгся в Афганистан. То, что должно было быть блицем, превратилось в оккупационный конфликт, который испытал не только советское достояние, но и престиж Красной Армии. Именно в Афганистане мы находим того сына Ардахара, которого мы представили несколько страниц назад. Джохар Дудаев, родившийся за несколько дней до ссылки, вернулся в Чечню со своей матерью и братьями сразу после хрущевской оттепели в 1957 году. Вынужденный зарабатывать, чтобы хоть как-то прокормить семью, он нашел работу электрика, продолжая вечернюю учебу. В 1962 году ему удалось поступить в Тамбовское военно-воздушное училище. Усердие и склонность к учебе позволили ему получить назначение в 54-й тяжелый бомбардировочный полк на военно-воздушную базу Сяйковка в Калужской области. В 1968 году он взял карточку Коммунистической партии. Выбор был продиктован не только желанием подняться по военной иерархии, которая в те годы неблагосклонно смотрела на не политизированные элементы (особенно если они были «подозрительной» национальности, как чеченская). Дудаев искренне верил, что «реформированный» социализм сможет преодолеть конфликты между народами. В 1970 году его перевели в 1225-й тяжелый бомбардировочный полк, дислоцированный на базе Белая. В течение года ему удалось поступить в Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина на курс офицерского кадетства. После окончания учебы он вернулся в Белую, где шесть лет спустя получил звание заместителя командира, затем начальника штаба и, наконец, командира полка. Это сделало его одним из немногих чеченцев, которые имели значение в иерархии советской власти. Во время вторжения в Афганистан Дудаев командовал 185-м тяжелым бомбардировочным полком25. В этом качестве в конце конфликта он отвечал за упорядоченное отступление авиационных подразделений в своем секторе, за что получил похвальную грамоту и был переведен на командование военно-воздушной базой ядерных бомбардировщиков близ эстонского города Тарту.
Тем временем Брежнев тоже покинул пост руководителя страны, оставив во главе Советского Союза осторожного реформатора – Юрия Андропова. За время его короткого пребывания на этом посту, длившегося всего шестнадцать месяцев, напряженность в отношениях с западным миром возросла, и его слабые попытки омолодить советскую машину не дали ощутимых результатов: военные расходы продолжали расти, в результате чего СССР был в шаге от краха. Коррупция и черный рынок стали повсеместными проблемами, в то время как бедствие алкоголизма распространилось среди деморализованных и обездоленных простых людей. После Андропова настала очередь другого серого чиновника номенклатуры Константина Черненко. Его правительство было еще короче и неуместнее предыдущего: за тринадцать месяцев своего управления страной пожилой лидер сумел лишь обострить напряженность в отношениях с Соединенными Штатами, приказав бойкотировать Олимпийские игры 1984 года и еще больше изолировать Советский блок. Его смерть осталась почти незамеченной, поскольку в течение некоторого времени на политической арене появилось новое, интересное лицо – 54-летний Михаил Горбачев, имя которого быстро запестрело в заголовках газет.
Этот лидер отличался от тех, кто был до него. Прежде всего, он был молод: 54 года для такого политического успеха весьма немного. Его харизма, способность сопереживать людям и, что не менее важно, его реформистское мышление были тем оружием, с помощью которого он получил назначение Генеральным секретарем КПСС, единогласно избранным восторженным собранием.
Его предпосылка была честной: холодная война проигрывалась на всех фронтах, и коммунизму грозило не что иное как развал, подобно сдувшемуся воздушному шару. Тезис Горбачева был прост: Советский Союз не мог идти в ногу с Западом, не обладая собственным богатством и авторитетом. Его план, однако, был дальновидным. По словам Горбачева, для достижения «большого экономического скачка», который спас бы режим, необходимо было выполнить ряд предварительных условий: прежде всего, окончание холодной войны. Если бы СССР перестал растрачивать свой ВВП на вооружения и на полях сражений, он получил бы необходимую свободу маневра. Чтобы добиться этого, необходимо было возобновить переговоры с Западом и инициировать разоружение. Однако для того, чтобы Запад захотел возобновить переговоры, СССР должен был бы немного больше походить на своего противника. Таким образом, первым шагом к запуску счастливой цепочки событий, на которую надеялся Горбачев, была реализация «социализма с человеческим лицом», способного дать голос оппозиции и новый импульс политической жизни. Как только капитал, потраченный на вооружение, был бы сэкономлен, он перешел бы к созданию экономики, основанной на рыночном социализме: обширный план либерализации и восстановления частной собственности гарантировал бы большую производительность и сформировал класс предпринимателей, которые совершили большой скачок примерно в 2000-х годах. Кульминацией этой перестройки (в российской перестройке) стало бы превращение СССР в новое политическое образование, состоящее из свободных и суверенных республик. Проект был амбициозным. Для того чтобы функционировать, советскому народу было необходимо понять и принять необходимость перемен, давая центральному правительству время использовать каждый этап Перестройки как функцию следующего.
Первые меры носили социально-экономический характер: Горбачев вложил огромные ресурсы в закупку современных промышленных технологий на Западе, однако без элемента конкурентоспособности инновации не имели смысла. И действительно, обновление отраслей было медленным и неэффективным. Для этих инвестиций советскому правительству пришлось прибегнуть к массовым международным кредитам. Понесенные расходы вышли далеко за рамки бюджета и разрушили государственную казну, неспособную справиться с этой гигантской кучей долгов. Миллиарды рублей, ушедшие из внутреннего экономического контура, были добавлены к структурным расходам на закупку зерновых и других товаров первой необходимости для населения. Это привело к высокой инфляции, которая делала рубль все слабее и слабее на валютном рынке.
СССР продолжал тратить все больше и больше денег, пытаясь обратить вспять теперь уже непоправимый экономический коллапс. Никакие инвестиции не позволили бы экономике Союза содержать гигантскую армию и агрессивную партийную бюрократию. Но у нового лидера не хватило воли подорвать структуру власти, и он еще не был готов отменить предпосылки советского режима: плановую экономику и однопартийную систему. Результатом стало то, что его экономический план усугубил недостатки капиталистической системы без распределения выгод: в течение пяти лет правительство, теперь лишенное ликвидных ресурсов, потеряло способность маневрировать. Периодические кризисы перепроизводства или недопроизводства, с которыми Москва обычно сталкивалась при щедром контроле давления.26 Однако наиболее решительными вмешательствами в последующие события были те, которые были направлены на демократизацию общества, названную историками Гласностью (Прозрачностью). Серия мер завершилась под этим названием, от освобождения политических заключенных до открытия для инакомыслия в средствах массовой информации, от снятия ограничений на поездки на Запад до признания первых некоммунистических объединений. Ослабление контроля над прессой и политической инициативой имело экспоненциальный эффект: то, что раньше нельзя было сказать, было озвучено. Через пару лет после начала реформ разгорелись политические дебаты как в России, так и в других странах Советского блока.
Возрождение национальностей
Во внутренней политике решение ослабить контроль над прессой, гарантировать свободу политическим оппонентам, открыть государственные архивы и разрешить развитие независимых информационных агентств вызвало настоящую политическую бурю. В то время как историки начали заполнять так называемые чистые страницы истории СССР, то есть все те кровавые факты, которые официальная историография замалчивала, чтобы не запятнать социализм, в народе пробились первые национальные требования. Первыми республиками, пострадавшими от последствий, были Прибалтийские республики, самые богатые и «западные» в СССР27. Как и в Чечне, пропаганда в этих малых странах сфабриковала миф о добровольном выходе из СССР. В декабре 1986 года в Риге состоялась первая крупная национальная демонстрация после аннексии, жестоко подавленная полицией. В период с 1988 по 1989 год во всех трех республиках гражданские движения объединились в Народный фронт, который провозгласил независимость и многопартийность. Десятью годами ранее некоторые инициативы были бы кроваво подавлены, но Горбачев хотел подать сигнал к обновлению и дать возможность протестным движениям разрастись, собрав сотни тысяч сторонников. Вскоре это явление вышло за пределы прибалтийских республик, затронув уже соседние страны. Народные фронты зарождались почти повсеместно.
С возрождением национального чувства возникли и древние территориальные претензии, которые дремали, но никогда не рассеивались. СССР состоял из более чем ста субъектов, многие из которых населялись малыми народами, ревностно относящимися к своей самобытности. Взрыв национального самосознания привел к первым локальным конфликтам, и один из них разгорелся всего в двух шагах от Чечни, в Нагорном Карабахе. Эта земля была населена в основном армянами, но входила в состав Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Первые трения между армянами и азербайджанцами возникли уже после смерти Сталина. Приход Горбачева вызвал претензии армян, которые были христианами и которые опасались «культурного геноцида» со стороны своих мусульманских соседей. Местная интеллигенция и политики требовали, чтобы в школах преподавали на армянском языке, и чтобы их язык был признан наравне с азербайджанским. Азербайджанцы напротив утверждали, что эта территория является неотъемлемой частью их государства, и отказались предоставить Нагорному Карабаху такой автономный статус. В период с 1987 по 1989 год оба фронта организовывали марши и демонстрации, в то время как Горбачев пытался вернуть протестующих к переговорам. Протесты вскоре переросли в агрессию, и первые мирные жители начали переселяться.
20 февраля 1988 года был зажжен фитиль, который мог бы спровоцировать конфликт: две азербайджанские девушки были изнасилованы группой армян. Два дня спустя азербайджанцы и армяне столкнулись близ Аскерана. В ходе беспорядков погибли два азербайджанских мальчика. Несколько дней спустя толпы азербайджанцев стеклись в город Сумгаит, расположенный в нескольких километрах от столицы Азербайджана Баку, предаваясь трехдневному разбою, изнасилованиям и убийствам, в результате которых погибло по меньшей мере 26 армян. 1 марта советская армия вошла в город и положила конец беспорядкам, но ущерб уже был нанесен, и в последующие недели начался отток армянского населения из страны. В период с 1988 по 1989 год сотни людей были убиты, а тысячи вынуждены покинуть свои дома.
Чеченская гласность
Наступление гласности впервые позволило распространить труды, в которых рассказывалось о репрессиях и других зверствах, совершенных Советской властью, подняв на поверхность народную память и предоставив первые аргументы тем, кто отрекся от теории добровольного присоединения. В 1987 году родился «Кавказ» – первое культурное объединение, посвященное сохранению памяти и самобытности кавказских народов. Одним из его главных организаторов был Бектимар Межидов – молодой выпускник юридического факультета, о котором мы подробно поговорим в следующих главах. «Кавказ» начал смело опровергать тезисы профессора Виноградова, вводя темы, которые до тех пор были категорически запрещены режимом. В частности, он поддержал позицию ученых, которые были маргинализированы университетами из-за их отказа соответствовать официальной историографической позиции: прежде всего профессора Хусейна Ахмадова, научного сотрудника Научно-исследовательского института Чечено-Ингушетии, автора многочисленных выступлений, противоречащих позиции Виноградова и поэтому отправленного в 1985 году учительствовать в маленьком селе Джалка. Между Межидовым и Ахмадовым зародились прочные отношения дружбы и сотрудничества, которые приведут их к тому, что они будут играть центральную роль в независимой Чечне, как мы увидим позже.
В то время как исторические и культурные дебаты охватили правящий класс, экономический кризис уничтожил простых людей. Последствия перестройки сильно ощущались в Чечне, усугубляя структурные недостатки общества: в частности, разрыв между русскими и чеченцами снова увеличился как с точки зрения доходов, так и с точки зрения доступа к работе, образованию и услугам. Эта ситуация стала еще более ненавистной для чеченцев из-за того факта, что русскоязычное меньшинство становилось все более редким, составляя всего четверть от общей численности населения. Это было в основном урбанизировано в столице, в то время как сельская местность была в основном населена чеченцами и ингушами. Эти два народа на полпути 90-х годов имели некоторые печальные рекорды: они были наименее образованными28, наименее занятые и народом с самой высокой детской смертностью во всем Советском Союзе. Период роста, который Чечено-Ингушетия переживала в 60-70-е годы, закончился.
Аналогичная ситуация была зафиксирована и в сфере занятости. Контроль над наиболее прибыльными видами экономической деятельности находился в руках россиян, в частности над теми, которые были связаны с добычей и переработкой нефти. Несмотря на то, что Чечня по официальным показателям по-прежнему производит 4 миллиона тонн сырой нефти в год29, что ее нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают от 16 до 18 миллионов тонн и что промышленный центр Грозный был первым во всей России по производству механических смазочных материалов, почти все чеченцы оставались бедными полуграмотными фермерами. Демократическое открытие Горбачева вернуло на поверхность их никогда не дремлющее национальное самосознание, которое теперь еще больше усилилось из-за последствий экономического кризиса.
Первые протесты против центральной власти начались весной 1988 года с мобилизации против открытия биохимического завода в Гудермесе – во втором по величине городе. Группа исследователей во главе с инженером Русланом Ижбулатовым начала проводить совещания, на которых раскрывалась опасность для окружающей среды и для людей производственных процессов, запланированных на заводе.30 22 мая протестующие собрались в неформальное движение (так называли его советские чиновники, поскольку оно не было создано в рамках Коммунистической партии) и назначили публичную демонстрацию на следующий день. Результатом стал настоящий массовый митинг, в котором приняли участие тысячи горожан. Некоторые члены КПСС попытались надеть шляпу в знак протеста, выйдя на сцену, чтобы выступить, но были ошеломлены свистками и вынуждены уйти. С этого дня почти каждое воскресенье в течение более четырех месяцев тысячи людей собирались на площади Ленина в Грозном, чтобы потребовать остановки биохимического завода. Тем временем неформальное движение распространило свое влияние на всю Чечню. Уличные демонстрации прошли в Аргуне, Гудермесе, Урус-Мартане и Шали, и из толпы начали выходить первые лидеры. Первым появился сорокалетний Хож Ахмед Бисултанов, уже зачисленный в «Кавказ». Под его руководством неформальное движение превратилось в настоящее политическое движение: вдохновленный тем, что происходило в прибалтийских республиках, Бисултанов сформировал Народный фронт Чечено-Ингушетии.
К экологическому протесту стали добавляться изысканно политические претензии: Бисултанов обвинил руководство республики в неэффективности, в незаинтересованности в нуждах граждан и потребовал, чтобы разрыв в политическом представительстве между чеченцами, ингушами и русскими был преодолен раз и навсегда. Первоначально режим отреагировал типично советским образом, организовав слежку за лидерами и дезавуировав Народный фронт по телевидению, заклеймив его как безответственную и сеющую разногласия силу. Демонизация фронтистов сделала их еще более популярными, и Бисултанов вскоре стал самым известным лидером Чечни. Не сумев решить проблему, правительство решило пойти по пути де-факто, приказав арестовать Бисултанова и других лидеров Народного фронта.
Народная победа над советским полицейским государством уступила место бурному процессу демократического возрождения: теперь, когда однопартийная система пошатнулась, все хотели создать группу, ассоциацию, движение, которое обогатило бы политический ландшафт. В конце 1988 года родилась Партия исламского возрождения, целью которой было вернуть ценности ислама, отрицаемые и преследуемые государственным атеизмом, в центр общественной жизни Чечни. Среди его организаторов был молодой журналист Мовлади Удугов, в то время малоизвестный директор диссидентской газеты «Ориентир», но которому вскоре предстояло стать одним из главных героев независимой Чечни. В 1989 году родилась ассоциация ингушских националистов «Нийсо» (буквально «справедливость»), возглавляемая вышеупомянутым Исой Кодзоевым.
Чтобы сдержать кровоизлияние в консенсус, которое вынудило миллионы граждан покинуть КПСС, Горбачев вмешался, расправившись с партией, заменив старых лидеров-ветеранов молодыми администраторами с более умеренными взглядами. Чеченский народ требовал представительства, и они были правы: ни один коренной житель никогда не занимал ни одного из высших постов в партии или государстве, которыми в Чечне в то время были Первый секретарь парткома и Председатель Верховного Совета. Первым секретарем был русский Владимир Фотеев. Председателем Верховного Совета был ингуш Хажбикар Боков, о котором мы уже упоминали. Было решено заменить Фотеева чиновником чеченского происхождения, чтобы и чеченцы, и ингуши имели своего представителя в руководстве республики. Выбор пал на инженера-агронома, бывшего министра сельского хозяйства Доку Завгаева31.
7 февраля 1989 года Областной комитет КПСС, ввиду запланированной ротации, опубликовал заявление, в котором впервые выразил надежду на радикальные политические перемены32. Впервые за сорок пять лет чеченцы смогли свободно рассказать о пережитой ими трагедии. Семинары посетили тысячи людей, и разрыв между народом и руководством Республики, казалось, был восстановлен в признании грехов Сталина. В июле 1989 года Завгаев был назначен первым секретарем партии, и этот шаг, казалось, был очень удачным: чеченцы с энтузиазмом приветствовали приход одного из своих соотечественников у руля КПСС и приветствовали это событие как начало эпохального переломного момента в своей истории. После десятилетий репрессий казалось, что чеченский народ может изменить свою судьбу и наконец повернуть свою жизнь в долгожданное свободное русло.
ГЛАВА 2
От Завгаева до Дудаева
Конгресс, исходя из естественного, священного и неприкосновенного права чеченского народа на самоопределение, выражая суверенную волю чеченского народа, осознавая историческую ответственность за судьбу чеченского народа, а также для создания необходимых условий для его дальнейшего свободного и всестороннего развития, заботясь о сохранении и развитии чеченского этноса, уважая права и интересы всех представителей других народов, проживающих в республике, торжественно провозглашает государственный суверенитет Нохчийчоь.
Из Декларации о суверенитете Чеченского национального конгресса
Грозный, 25 ноября 1990 года
Радикальные реформы
Чем больше проходило времени, тем яснее становилось, что перестройка не работает. Восстановление экономики шло медленно, и действительно, экономика перешла от стагнации к рецессии. Люди воспринимали реформы Горбачева не как возможность построить новый социализм, а скорее как возможность избавиться от старого. Общественное мнение разделилось надвое: с одной стороны, были консерваторы, поддерживаемые бюрократией, партийными кадрами и частью армии, которые хотели прервать план реформ, чтобы спасти режим. С другой стороны, были радикальные реформисты, которые вместо этого настаивали на ускорении перестройки, и для того, чтобы она была реализована, они были готовы обойтись без самого СССР, если это необходимо. Первые собрались вокруг Егора Лигачева, второго человека в правительстве. Последних представлял Борис Ельцин, секретарь московского отделения партии.
Столкновение между ними произошло в сентябре 1989 года, когда Ельцин подал в отставку, если бы лидер КПСС не бросил Лигачева. Горбачеву не хотелось разыгрывать реквием по режиму, и он удержал своего секунданта в седле. Ельцин воспринял это не очень хорошо, но прежде всего это не понравилось многим россиянам, которые видели в нем единственного человека, способного спасти их от нищеты, в которой они оказались33. Вокруг радикального лидера сформировалось движение, которое сегодня мы бы определили как «антикаст», которое он намеревался использовать для демонтажа системы изнутри. Тем временем социалистический режим подвергался нападкам со всех сторон. Обострение экономического кризиса разожгло улицы и дало аргументы тем, кто, обвиняя центральное правительство, требовал самоуправления. Если раньше авангардом протеста были прибалтийские республики, то теперь он охватил весь Союз, рискуя разнести СССР на тысячу осколков. Горбачев начал понимать, что он хотел сделать слишком много вещей одновременно, но к настоящему времени было уже слишком поздно: экологические протесты превратились в демократические восстания, возглавляемые Народными фронтами. Таким образом, внутри фронтов появились новые политические субъекты, многие из которых были националистического происхождения. Советы попытались вмешаться, предложив автономистские реформы, признав местные языки официальными, спонсируя культурное возрождение и исторический ревизионизм. То есть они пытались вернуть общественное мнение в партийную ограду. Однако это повышение популярности привело к равному и противоположному эффекту: вместо укрепления консенсуса советские меры распространили убеждение в том, что система терпит неудачу. Независимые ассоциации множились, и протесты приобрели явный независимый характер.
Первыми от слов перешли к делу эстонцы во главе с назначенным лидером Вайно Вальясом. После обсуждения вопроса об учреждении национального языка в качестве государственного 16 ноября 1988 года Верховный Совет Эстонии обнародовал Декларацию о суверенитете, в соответствии с которой законы Эстонии будут считаться преобладающими над законами СССР. Это еще не было отделением, но шло к нему. В последующие дни Латвия и Литва также присоединились к Эстонии, и аналогичные инициативы были реализованы в Грузии, Украине, Молдове и Беларуси.
После стран Балтии и кавказских республик настала очередь республик Центральной Азии. В декабре 1986 года в Казахстане прошли бурные демонстрации в связи с известием о том, что Горбачев намеревался заменить местного председателя Верховного Совета Конаева казахского происхождения русским Геннадием Колбиным. Протесты переросли в городскую войну, в результате которой погибли два человека и еще двести получили ранения. КГБ вмешался, арестовав почти пять тысяч человек. В июне 1989 года в Узбекистане вспыхнули межэтнические столкновения, которые вскоре должны были привести страну в один шаг к гражданской войне. В обеих странах Горбачев заменил местных лидеров фигурами, которых ценило население, но таким образом он не сделал ничего, кроме как ускорил распад СССР.
В разгар всего этого Ельцин боролся с инакомыслием и способствовал дальнейшему ускорению реформ в своей нынешней демократической России. Этим он хотел бросить вызов консерваторам на первых выборах в новый политический институт, созданный Горбачевым для дальнейшей демократизации Союза: Съезд народных депутатов. Это был суперпарламент, состоящий из 2250 делегатов, избранных на всей территории СССР, ответственных за назначение Верховного Совета Союза. Выборы в конституцию этого нового органа состоялись в период с 26 марта по 26 мая 1989 года и были первыми, в которых могли участвовать кандидаты, не являющиеся членами Коммунистической партии. Для Ельцина это был триумф, так как Демократическая Россия получила 600 мест, а сам радикальный лидер получил 92% предпочтений в своем избирательном округе. Его консервативный оппонент, Лигачев, был одним из наименее проголосовавших кандидатов из всех, наряду с представителями советской «старой гвардии». Победа реформистов дала «свет» новой волне демонстраций в Молдове, Украине и Беларуси34.
Тем временем межэтнические конфликты усиливались. После Нагорного Карабаха, о котором мы уже говорили, запылали два других региона – Абхазия и Южная Осетия. Оба региона были автономными областями Республики Грузия, и оба претендовали на независимость от Тбилиси. В марте 1989 года ректор Университета Сухуми – столицы Абхазии, подписал Декларацию о суверенитете, аналогичную той, что была обнародована эстонцами несколькими месяцами ранее, вместе с большим количеством представителей политического и интеллектуального мира. Только на этот раз речь шла не о восстании против Советского блока, а об отделении от другой республики, которая, в свою очередь, провозгласила свой суверенитет. 20 сентября 1990 года, после серии уличных беспорядков, Южная Осетия также провозгласила свой суверенитет, опубликовав декларацию о независимости, в которой была создана Советская Демократическая Республика Южная Осетия. Механизм, запущенный Эстонией и молчаливо принятый Горбачевым, начал дробить советские республики на множество мелких этнических государств в процессе, который после распада бывшей Югославии будет назван балканизацией. И точно так же, как это должно было произойти на Балканах, центральное правительство Грузии, находившееся тогда в руках лидера националистов Звиада Гамсахурдиа, отреагировало, отправив армию для подавления восстаний. 11 декабря Грузинская национальная гвардия осадила Южную Осетию, препятствуя любому передвижению в регион и из него.35

