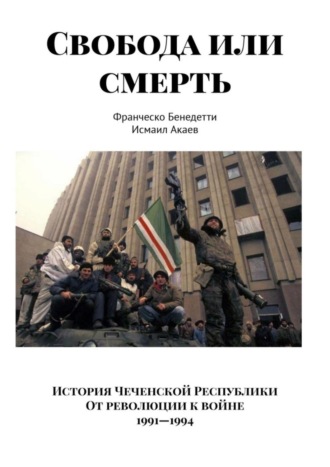
Полная версия
Свобода или смерть. История Чеченской Республики. От революции к войне. 1991–1994
В феврале 1943 года, после сокрушительного поражения под Сталинградом, Вермахт ушел с Кавказа. Реакция Сталина в отношении чеченцев и ингушей была беспощадной. К концу 1943 года, когда Чечня снова стала тылом фронта и делала все для приближения победы советский диктатор приказал министру внутренних дел Лаврентию Берии раз и навсегда разобраться с этим беспокойным народом, который в самый трудный момент войны якобы не внес должного вклада в военные усилия СССР13. Вопрос об отсутствии лояльности, проявленной вайнахами во время войны, был крайне не последовательным, лживым и подлым, но он также был отличным идеологическим зонтиком для прикрытия «ермоловского» решения кавказской проблемы в то время, когда мир не был заинтересован в том, чтобы смотреть на то, что происходило в этом уголке Европы.
Берия выполнил приказ Сталина с циничным профессионализмом: доставив в Грозный бригаду агентов НКВД14, он приказал своим людям собрать доказательства «предательства» чеченцев и их соседей ингушей. В итоговом отчете, составленном народными комиссарами, указывалось на наличие тридцати восьми активных религиозных сект, насчитывающих около двадцати тысяч приверженцев, целью которых было свержение Советского Союза. Безжалостный палач Сталина уже поскрежетал зубами в качестве преследователя сначала в своем родном Закавказье (где он проводил чистки), затем в Польше и в странах Балтии (где он завершил чистку интеллигенции и буржуа), таким образом, после испытания своей военной машины, выполнив две «небольшие «этнические чистки» в Кабардино – Балкарии и в Карачаево -Черкесии он решил провести среди чеченцев к концу зимы.
В период с декабря 1943 по январь 1944 года сто двадцать тысяч человек, от солдат до сотрудников НКВД, были размещены в Чечено-Ингушетии, официально для поддержки восстановления и подготовки урожая. Транспортные средства и грузовые поезда были собраны на военных складах и железнодорожных станциях, в то время как солдаты создавали гарнизоны по всей стране. В ночь с 22 на 23 февраля началась так называемая операция «Чечевица», вошедшая в историю с русским термином «Чечевица» и чеченским термином «Ардахар». В течение суток три четверти всего чечено-ингушского народа были погружены на товарные поезда и отправлены в Центральную Азию. В последующие дни та же участь постигла последнюю четверть. Любой, кто не мог двигаться или сопротивляться, был казнен на месте.
Любое сопротивление было бесполезно. Села, в которых они происходили, были подожжены, а их жители убиты. На юге страны, где снег все еще был глубоким и передвигаться было трудно, у коммунистов не возникало особых проблем с тем, чтобы заставить население маршировать по снегу, чтобы добраться до места назначения. Старики, дети и инвалиды в конечном итоге были расстреляны или брошены на произвол судьбы15. Для тех, кто добрался до поездов живыми, началось трехнедельное путешествие смерти. Словно скот забитые в освинцованные фургоны без туалетов, они отправились в свой трехтысячекилометровый путь по заснеженной степи, выживая за счет того немногого, что им удалось взять с собой. От 10 до 20% репрессированных умерли во время выселения. Выживших сбрасывали в кучу и заставляли строить себе убежища и хижины на окраинах колхозов, для которых они были бы низшей формой труда. Советское правительство наложило на них обязательное пребывание. Каждый месяц изгои должны были отчитываться перед властями и заявлять о своем присутствии под страхом 20-летнего срока принудительных работ на каторгах.
От Чечено-Ингушетии ничего не осталось. Республика была стерта с политической карты и упразднена в Грозненскую область, а ее районы были присоединены к соседним республикам Кавказа. Все культурное наследие чеченцев было уничтожено: мечети и исламские центры были разрушены, а их камни стали строительным материалом. Даже могильные плиты с кладбищ были удалены и использованы для строительства домов, правительственных зданий, даже конюшен и свинарников. Тептарш – тейповые хроники, написанные на пергаменте и сохраненные старейшинами, были сожжены или переданы в московские архивы. Осиротевшая Чечено-Ингушетия была заполнена выходцами из соседних кавказских республик. Из регионов, наиболее пострадавших от конфликта, сотни тысяч россиян были размещены в Грозном, который теперь превратился в город-призрак. Лишь горстка выживших, которые остались в Чечено-Ингушетии случайно или потому, что сбежали от своих мучителей, продолжали жить, скрываясь в горах и вели абречество. Самому Исраилову удалось избежать ареста до 24 декабря 1944 года, когда он был опознан полицией и убит в перестрелке. Для всех остальных началось тяжелое испытание, которое продлится ровно тринадцать лет, вплоть до смерти Сталина. Репрессированным пришлось столкнуться с ужасными условиями нищеты среди населения, которому едва приходилось прокормить себя. Уровень смертности от болезней и недоедания вскоре достиг драматической отметки. Люди умирали от голода, холода и тифа. Только за трехлетний период с 1944 по 1947 год погибло сто пятьдесят тысяч человек – около четверти населения. Выжившие жили в коллективных квартирах, в которых размещалось до пятнадцати семей, в основном без стабильной работы и без ресурсов. Те, у кого не было работы, бродили по степи в поисках туш животных или диких трав или пытались украсть еду в колхозах. Любой, кому удалось устроиться на работу в один из них, мог надеяться свести концы с концами:16 В специальном постановлении было установлено, что для определения режима размещения депортированного населения […] его следует считать бессрочным, без права на возвращение […]. Чеченцев заставили подписать указ один за другим.
Ардахар (Выселение)
Лишенные своей земли и своих обычаев, чеченцы при этом пытались сохранить свою самобытность, передавая свои обычаи, традиции и историю устно и доверяя себя пожилым людям, которые в отсутствие чего-либо другого стали единственными хранителями общей памяти.
Благодаря традициям, передаваемым из поколения в поколение, благодаря верности чеченского народа своему незыблемому адату и ценностям ислама, он смог сохранить свою национальную идентичность. Однако Советское правительство прилагало все усилия, чтобы уравнять чеченское общество, искоренить из него национальное самосознание. Для этой цели создавались школы идеологического воспитания и шло активное внедрение КГБ в исламские общины, но национальные чувства чеченцев не ослабли, а напротив усилились в сопротивлении программам освобождения, начатым властями от родины и отсутствие письменных источников породили упрощенную, идеализированную и мифологизирующую историю, которая станет кредо того поколения, которое достигнет зрелости в начале 1990-х годов17.
Среди сотен тысяч репрессированных, которых постигла печальная участь изгнания, был ребенок по имени Джохар. Он родился 15 февраля 1944 года, за девять дней до того, как Сталин приказал выслать чеченский народ. Тринадцатый сын ветеринара Мусы Дудаева и его второй жены Рабиат, он провел свое детство в обществе изгоев, считался недостойным участвовать в великом социалистическом проекте, рос маргинализованным и замкнутым в себе. Когда его отец умер, оставив после себя большую и малообеспеченную семью, его матери разрешили переехать в город Шымкент на юге Казахстана, где климат был мягче и был больший спрос на рабочую силу. Джохар, унаследовавший преданность учебе от своего отца, сумел достойно закончить начальную школу18. Не имея возможности получить высшее образование, он старался поддерживать семью, работая там, где это было возможно, чтобы принести домой хоть что-нибудь, что могло бы облегчить жизнь его матери. Именно в этот тяжелый период времени его застало известие о смерти Сталина. Это было 5 марта 1953 года, и чеченцы находились в изгнании уже девять лет.
Новый советский лидер Никита Хрущев начал серию мер, направленных на смягчение железного кулака, который в последние десятилетия управлял советским режимом, что в последующие годы получило название десталинизации или как было принято называть в народе «Оттепель». Первым шагом было избавиться от сторонников Сталина, начиная с ненавистного Берии, которого судили и поставили к стенке в течение нескольких месяцев к радости чеченцев и всех других репрессированных народов. Второй состоял в том, чтобы простить врагов государства, которых преследовал тиран. Таким образом, с 1954 года статус спецпоселенца был отменен для всех чеченцев в возрасте до шестнадцати лет, что впервые позволило им покинуть свой вынужденный дом для работы и учебы. В августе 1955 года эта свобода была также признана за учителями, награжденными военными наградами, женщинами, состоящими в браке с русскими, и инвалидами. Для всех остальных ограничения сохранялись, но наказание за незаконное оставление поселений было снижено с 20 до 5 лет принудительных работ. Число обвинительных приговоров значительно сократилось: с восьми тысяч в 1949 году до всего двадцати пяти в 1954 году.
Наконец, 16 июля 1956 года долгая ночь Ардахара официально закончилась. Указом Верховного Совета запрет на возвращение на родные земли был официально снят. 9 января следующего года была восстановлена Чечено—Ингушская АССР, к которой были присоединены все районы, входящие в ее состав, за исключением Пригородного, на границе с Северной Осетией и Ауховского района на границе с Дагестаном, который еще до высылки чеченцев был передан Сталиным Дагестану. Эта проблема по сей день не решена и часто становится поводом для возникновения конфликта между двумя народами.
Советское правительство, понимая, что массовое возвращение чеченцев создаст много проблем, пыталось управлять этим явлением, установив своего рода список ожидания, который замедлил бы переселение, но нетерпение чеченцев и ингушей вернуться в свои дома не подлежало обсуждению, и уже в 1957 году, перед лицом 17 000 разрешений, по меньшей мере пятьдесят тысяч человек вернулись домой. В течение 1958 года возвращение вайнахов на родину достигло своего пика. 340 000 репрессированных вернулись, в основном без работы, образования и экономических ресурсов, и к 1959 году 83% чеченцев и 72% ингушей находились на постоянной основе в пределах древних границ. Местные органы власти не смогли справиться с таким массовым притоком людей, и представители местной власти обратились за помощью в Москву.19.
Исконные жители Чечено-Ингушетии превратились в «иммигрантов в своих собственных домах», заняв в итоге низшие позиции социальной пирамиды, на вершине которой находились русские, которым Сталин отдал их дома и земли. Эта ситуация вскоре породила своего рода «апартеид» между русскими, которые обладали монополией в промышленности и управлении, и чеченцами, которые составляли большую часть сельскохозяйственной рабочей силы или, в худшем случае, были безработными, вынужденными выполнять сезонные работы, недоплачиваемые и без защиты20.
Кроме того, чеченцы подвергались постоянным нападкам местных жителей, которые на время отсутствия коренных обитателей этого края, почувствовали себя его хозяевами. Мало того, что они не могли зайти в собственные дома, они не имели возможности свободно передвигаться на родной земле и даже разговаривать на своем языке. До сих пор живы те, кого в общественном транспорте с грубостью одергивали во время разговора на чеченском языке. Это было очередное испытание для уставшего от жестокой репрессии чеченского народа. Возвращение на родную землю обернулось для чеченцев еще одной борьбой.
Прошло совсем немного времени, прежде чем трения между двумя народами переросли уже в насилие: 23 августа 1958 года ингуш убил русского в драке. Это была искра, которая разожгла античеченский погром, во время которого десятки людей были линчеваны, некоторые общественные здания были подожжены и подавить эти беспорядки стало возможным лишь при вмешательстве армии.
Центральное правительство официально продвигало политику мира и согласия, однако на самом деле чеченский этнос на своей собственной земле был крайне ущемленным. У них не было возможности даже получить прописку в столице республики, а все рабочие места были заняты представителями различных национальностей, которые проживали в республике. Вся жизнь простого чеченца, вернувшегося на родину представляла собой борьбу за кусок хлеба. Старшеклассники не могли полноценно закончить учебный год, так как ранней весной им приходилось вместе с родителями выезжать на заработки в Казахстан и на Север и возвращались они лишь глубокой осенью, изможденные физическом трудом. А в родной республике на крупных химических и нефтеперерабатывающих заводах чеченцам был путь заказан даже в качестве чернорабочего.
Конечно, Москва финансировала строительство школ и различных учреждений, однако учитывая тот объем ресурсов, который выкачивался из недр республики, выделяемые средства были словно капля в море. Власть советов словно пиявка присосалась к недрам республики и нещадно доила ее на протяжении долгих лет. В принципе эта политика продолжает действовать и сегодня.
Советская Чечня
В 1960-е и 1970-е годы общее повышение качества жизни привело к невиданному ранее благосостоянию. Чечня практически стала промышленным центром Юга России. В 1969 году здесь было 49 крупных заводов, способных производить сахар, молочные продукты, консервы, цемент и электроэнергию. Однако основным бизнесом экономики оставалась добыча и переработка нефти: Чечня стала вторым по величине полюсом добычи в СССР и поставляла 7% всей советской добычи, с годовым объемом 21,3 миллиона тонн черного золота, добытого из скважин. И это всего лишь официальные сведения о добыче нефтепродуктов. На самом деле реальные цифры были катастрофически снижены. Вокруг нефтяных месторождений возникла динамично развивающаяся перерабатывающая промышленность. К керосиновым заводам (уже созданным в 1910 году) были добавлены три крупных завода по производству дизельного топлива, бензина и смазочных материалов: в 1939 году был введен в эксплуатацию первый промышленный нефтеперерабатывающий завод «Шерипов». За ним последовали заводы «Ленин» (1958) и «Анисимов» (1959). Открытие этих трех крупных нефтеперерабатывающих центров позволило чеченцам перерабатывать не только собственную нефть, но и нефть, поступающую из других регионов СССР. Нефтеперерабатывающие заводы могли перерабатывать до 24 миллионов тонн нефти в год, получая поставки с огромных сибирских нефтяных месторождений. Поставка нефтепродуктов из других регионов была на самом деле легендой, которая успешно скрывала реальные цифры добываемой в Чечне нефти. Магистрали, построенные якобы для передачи нефтепродуктов в Чечню для переработки, на самом деле служили для откачки в Центральную Россию уже переработанного чеченского нефтяного сырья и нефтепродуктов – солярка, керосин, бензин. Эта поставка шла как через магистрали, так и через железную дорогу. Ни один самолет Советского Союза не поднимался в небо без авиационного масла, созданного из чеченской нефти, потому что авиационные масла, производимые из нефти других регионов, не были такими качественными. За маслоубойную установку, которая была установлена на нефтеперерабатывающем заводе Грозного в 1939 году, Сталин заплатил семь тонн чистого золота, и эта установка не прерывала свою работу даже на два часа до самого развала СССР. При случайных сбоях работы этой установки министр нефтяной промышленности Советского Союза в течение нескольких часов оказывался в Грозном, так как этот сбой равнялся чрезвычайным происшествиям в масштабах СССР. Авиационные масла, добываемые из чеченской нефти при помощи этой установки, поставлялись как стратегическое сырье во все союзные республики и продавались странам Варшавского договора и не только…
Парафин, добываемый из грозненской нефти считался одним из чистейших продуктов и поставлялся в Ватикан для создания церковных свечей. Когда Грозный утопал в нефтяной роскоши, коренному населению этой республики приходилось в далеких краях потом и кровью добывать себе хлеб насущный. После развала СССР, когда войска Советской Армии, базировавшиеся на территории Чечено-Ингушетии, покидали регион, они не забыли взорвать знаменитую маслобойку. Стоит особо подчеркнуть, что на территорию нефтеперерабатывающего завода, где находилась эта установка не было допуска ни одному чеченцу и ингушу и, как мы отметили ранее, ни один из них не мог работать на нефтяных предприятиях даже в качестве чернорабочего.
Грозный, который до тех пор был городом малого и среднего размера, пережил настоящий демографический взрыв, увеличившись со 172 000 жителей в 1939 году до 340 000 в 1970 году, однако при этом коренное население составляло минимум.
Чтобы обеспечить постоянный приток квалифицированной рабочей силы и поддерживать интеграцию между русскими и чеченцами, центральное правительство финансировало строительство школ и колледжей настолько, что в конце 1960-х годов республика смогла достичь уровня образования выше среднего по СССР.21. Рост культурной жизни также шел рука об руку с промышленным: в начале 1970-х годов здесь насчитывалось 484 библиотеки, 400 культурных объединений, 300 кинотеатров, три профессиональных театральных училища, две школы прикладного искусства и музыкальная школа. 14 периодических изданий, 4 газеты и два литературных журнала ежедневно распространяли около миллиона экземпляров, почти по одному на каждого жителя, в то время как местная телевизионная станция вещала весь день по всей стране. Участие в политической деятельности и в управлении государством также свидетельствовало о явном преобладании чеченского компонента над российским: в середине 1970-х годов 50% депутатов местных советов и цифра, колеблющаяся между 12 и 19% руководителей, были вайнахского происхождения. Количество не такое уж и большое, но все же намного больше, чем десять лет назад, когда этот показатель едва достигал 2%. В 1973 году впервые нерусский был избран главой местного Верховного Совета22.
Казалось, что условия для мирного сосуществования между народами, составляющими этническую мозаику Чечни, проявляются. Это состояние социального спокойствия было, однако, очень ненадежным: общая память об изгнании будоражила души под легким налетом благополучия, который скрывал все трения. Чтобы закрепить это, советский режим вмешался, предложив новую интерпретацию исторических процессов, описанных до сих пор, искусственное переосмысление последних трех столетий российско-чеченской истории в интеграционной функции. Знаменосцем этой работы по переписыванию чеченской истории был профессор Виталий Виноградов, автор теории «добровольного вхождения» Чечни в состав СССР. Он поддержал ревизионистский тезис, направленный на демонстрацию того, что элементы контакта и сотрудничества между чеченцами и русскими на сегодняшний день преобладают над элементами разделения и конфликта. По словам Виноградова, Россия, благодаря своему культурному превосходству, освободила первобытное население, приведя его к цивилизации. Теория была довольно странной, потому что она игнорировала или умаляла тот факт, что на протяжении веков кавказцы открыто боролись с московским законом, и потребовалась вся приверженность профессора и вся убедительность КГБ, чтобы навязать ее чеченским ученым. Виталий Виноградов был кремлевским продуктом, выращенным для искажения чеченской истории. Его лживые пасквили, подобно тем, что не было ни Кавказской войны, ни национально-освободительного движения с громадными жертвами, а была справедливая борьба интегрирующего «центра» против «набеговой экспансии» горцев Дагестана, Чечни и Черкесии с приведением их к имперскому порядку, говорят о том, что перед Виноградовым была поставлена четкая цель практически уничтожения чеченской истории и памяти об ее многовековой освободительной борьбе. Советский Союз в ту пору активно навязывал лживую теорию, что кавказским горцам Советская власть подарила «цивилизацию». Но чего стоила эта несуществующая «цивилизация» мы смогли прочесть в предыдущих главах. Несмотря на смену политического режима имперские взгляды этой страны не изменились. Власть Советов решила полностью уравнять чеченское общество, сделав его низшим социальным слоем, а фигура Виноградова со своим дешевым багажом переписанной чеченской истории как нельзя хорошо вписывалась в этот формат. Виноградов, презентующий себя как величайший историк и кавказовед на самом деле был лишь пешкой, чьи лживые труды на тот момент могли бы пригодиться лишь таким советским личностям как Чикатило (известный серийный убийца маньяк) и Суклетин (известный советский людоед) и подобным им. Виноградов действовал строго в рамках надиктованных властью условий. Его главная задача состояла в создании образа неграмотного чеченца, неспособного кроме как работать в колхозах. А те, кто мог добраться до культурных верхов власти, стать депутатом, либо занять какую-то должность, должны были иметь либо русскую жену, либо отказаться от своей веры, полностью примерив на себе роль ярого атеиста, отрицающего существование Аллаха и его предписаний. Была запущена целая программа по сокрытию и уничижению проявления каких-либо успехов со стороны чеченцев. И осуществлялась эта программа еще с 30-х годов. Именно в тот период чеченскую интеллигенцию так сильно встряхнули, что она еще долго не сможет встать на ноги. Ярким примером тому является деятельность Союза писателей Чечено-Ингушетии. В частности, из 12 членов Союза писателей Чечено-Ингушетии было арестовано 9 человек, отправлено в Сибирь 7, расстреляно 4 человека. Любые ростки чеченского культурного и научного успеха жестоко обрубались на корню. При этом в целом Грозный как советский город рос и процветал, не переставая ни на один день снабжать своими ресурсами огромный Советский Союз. Погасшее солнце чеченской науки, физик Ахмед Цебиев. Его имя незаслуженно было вычеркнуто советской властью, а все его труды и научные достижения подло и несправедливо переданы совершенно другому лицу. «Явление генерации СВЧ- колебаний полупроводниковым диодом с одним p-n—переходом». Это явление сейчас активно используется при создании средств связи, в том числе и такой привычной для нас вещи, как мобильные телефоны. Мало кто знает, что не перестающий удивлять своими практически безграничными возможностями мобильный телефон зиждется и на открытиях, в которых непосредственное участие принимал Ахмед Цебиев. А ведущие электронные фирмы в США, Японии и других стран на основе этого же открытия разрабатывают и выпускают лавинно-пролетные диоды и устройства, которые применяются в системах связи, навигации, телеметрии, телеуправления, при посадке космических кораблей, на самолетных радиолокационных станциях.
Цебиев – автор 3 открытий, 26 изобретений в области радиоэлектроники и глобальной радиосвязи и автор более 50 научных работ в открытой и закрытой печати. Его громогласный успех в итоге стал коллективным, а за открытия Цебиева Ленинскую премию получили десятки людей, кроме самого автора.
Таким было культурно-историческое положение Советской Чечни.
Если бы экономический рост продолжал идти в том же темпе, социальная архитектура, теоретизируемая коммунистами, вероятно, привела бы к некоторым постоянным результатам.
Гонка вооружений, космическая гонка и все остальные «гонки», которые Соединенные Штаты навязывали СССР в те годы, начали изнашивать экономику. Советский Союз тратил огромные средства на содержание своей армии, и управление политическим аппаратом было столь же дорогостоящим. Пропаганда трезвого и строгого социализма приносила мало пользы: способность центрального правительства обновлять свое предложение прав, товаров и услуг населению становилась все более ограниченной. Экономическая машина, отягощенная все более распространяющейся и неэффективной бюрократией, ограничивала инвестиции, и мало-помалу разрыв между русскими и нерусскими снова начал расти. Наиболее явной реакцией чеченцев на этот новый отход от экономических и политических вершин стало обращение к гражданским и религиозным традициям: в конце 1970-х годов в республике активно работали старейшины над сохранением исторических и культурных устоев своего народа. Благодаря их деятельности, их живой памяти чеченская самобытность и культура сохранялись. Молодежь всецело следовала этим канонам и старалась обходить стороной чуждое национальным ценностям чеченцев. В этом плане старейшины играли ведущую роль.
Этническое сознание чеченцев, подчеркнутое исламом и памятью о репрессии, дало новый импульс восстановлению народных традиций, и в 1980-х годах они вернулись к преобладанию в местной культуре. Со своей стороны, коммунистическое руководство всячески пыталось препятствовать социальному разделению: издательский отдел СССР прямо запретил любое упоминание слов «репрессия» или «изгнание», но память об этом все еще была жива в рассказах выживших свидетелей трагедии и представители нового поколения выразили желание знать, знать правду23 и не стесняться рассказывать это в свою очередь24.
Перестройка
Геронтократическое руководство Москвы отреагировало на необходимость изменения системы оглушительным молчанием. Престарелый и параноидальный лидер КПСС, сменивший Хрущева, Леонид Брежнев, казалось, не осознавал серьезности проблемы. Таким образом, в то время как СССР скатился в стагнацию и накопил головокружительный государственный долг, государство стало жестким на всех уровнях, коррупция распространилась, а правящий класс становился все более и более ориентированным на себя, неспособным играть ведущую роль, которую до тех пор он прикрывал с помощью кнута и пряника. В частности, московскому правительству не удалось сделать экономику страны, зависящую от экспорта сырья, достаточно динамичной, чтобы конкурировать с капитализмом. Колебания цен на сырьевые товары, в частности на углеводороды, и чередование хороших и плохих сельскохозяйственных лет приводили к частым скачкам в экономике. Ответ правительства состоял в том, что нужно прибегнуть к долговым обязательствам для того, чтобы искусственно снизить цены. И без того испытанные государственные финансы испытывали стресс из-за гонки перевооружения в попытке удержать СССР в ногу с Соединенными Штатами.

