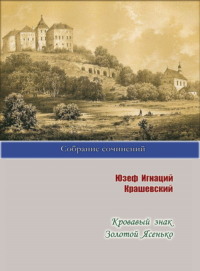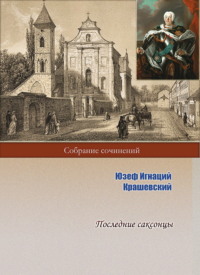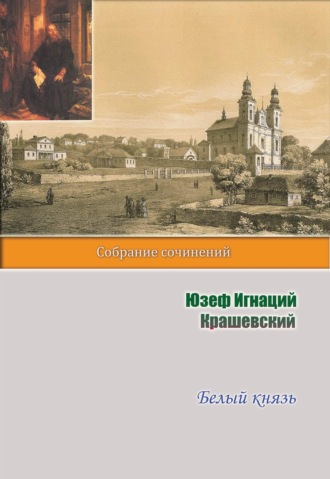
Полная версия
Белый князь
Заметив его, князь пустился к нему, сразу бранясь и бесчестя. Кивала, так как был силен своим правом, не отступил. Ответил князю, что он тут представляет особу короля.
А тот, не дожидаясь, поднял копье, бросил, и, попав в самую его грудь, положил трупом на месте.
Только когда брызнула кровь и мёртвый упал, а люди, что с ним были, начали уходить, князь остолбенел и понял, что сделал плохо.
Он развернул коня, уже не заботясь о границе, и полуживой, едва в состоянии усидеть в седле, вернулся в Гневков.
Положили его в кровать. Он велел позвать ксендза и постоянно служить мессы за душу Кивалы.
Тем временем в Краков донесли о том, что случилось; вдова Сташка поехала со слезами к королю, воевода Калишский вызвался. Король приказал позвать князя к себе, и грозно.
Влодек хотел сначала ехать, вскочил, потом остался.
День и ночь он бродил по избе, разговаривая сам с собой, то на скамью упадёт, то на кровать, то в углу бормочет, то окна откроет, чтобы воздух впустить, то огонь зажжёт.
Наконец, позвав капеллана Еремея, который одновременно был у него и канцлером, отправил его с письмом к королю Казимиру, неожиданно его успокоив. С чем он поехал, никто не знал, потому что Еремей под присягой дал слово не открывать это никому.
Посланный вернулся довольно скоро, когда тут громыхнула весть, которой сначала никто верить не хотел, – что князь, продав королю свои земли за несколько тысяч гривен, оставляет навсегда родину и хочет идти в Святую Землю, а потом будто бы в монастырь.
Случился переполох, никто не хотел верить, но это было правдой. Тут же начали всё готовить в дорогу, продавать движимость, другую князь начал раздавать, много коней и вещей он послал в Бодчу и Дрзень.
А так ему нетерпелось оставить Гневков и нас, малейшая проволочка до безумия его раздражала и вызывала гнев. День и ночь готовили коней и людей, хоть много их с собой не брал, потому что расходов хотел избежать. Четырёх молодых придворных и немного слуг для коней было ему теперь достаточно.
Он дал себе сшить чёрную одежду пилигрима, с крестом на груди. Также на грудь надел себе крест и на шлем, и так, одарив некоторых, других будто знать не желая, он поехал в свет. Только тут объявилось, как та Фрида из Дрзени была в него влюблена, потому что, когда, уже выехав в дорогу, он заехал в Бодчи и с ним попрощались, говорили, что она упала как неживая.
Но об этом, по-видимому, Белый не знал, потому что его обступили другие, а семья закрыла девушку, чувствуя позор от этой её любви.
Тут Мощчиц отдохнул немного; освежил вином уста, и через минуту, вздохнув, продолжал дальше:
– Что с ним потом делалось, мы узнали только от людей, и то не скоро. Сначала как в воду канул; только когда вернулся из Святой Земли, Качка Юрек, который с ним там был, отправленный домой, пришёл и начал рассказывать, сколько тот невзгод испытал, разных неудобств, опасностей, и как с милостью Божьей, чудом вернулся назад, когда уже никогда увидеть своих не надеялся.
Князь тогда прямиком через немецкие земли доехал до города, построенного на море, Венеции, о котором Качка рассказывал чудеса, что дома стоят в воде, а люди вместо карет и коней, используют челны, обитые киром. Там, сев на большой корабль, они пустились по морю, где сильная буря долгое время их так метала, что они уже ждали только смерти, пока чудом не сбросили в море одного злого волшебника, который присутствовал на корабле и был причиной; тогда море успокоилось и они достигли земли.
Как потом по этой Святой Земле в сильном голоде и жаре, часто живя только горстью муки, фигами и сухими плодами, на ослах, верблюдах и пешком все совершали паломничество, благочестиво посещая Гроб Спасителя и колыбель, все святые места, вышли целыми и невредимыми, хоть разбойники их преследовали и болезни от местной воды и жары мучили, не вспомню сегодня…
Достаточно, что князь, достав судно в обратную сторону, снова прибыл по морю в тот город и оттуда отправился на императорский двор в Вену.
Качка поведал, что он ещё был не уверен, что ему делать. Одного дня в монастырь собирался, на другой рыцарское ремесло предпочитал. Общаясь с ксендзами, он принимал их привычки, встретившись с людьми военного ремесла, он стремился к ним. А так как на императорском дворе он был почти что родственником, надеялся, может, найти там великую судьбу. Надежды его, по-видимому, разочаровали, потому что скоро узнали, что, как был с большим сердцем и гордостью, так же не было никакой степенности. Каким-то образом чаша весов склонялась к рыцарскому делу.
Может, в поисках того, что было для него лучше, в Тевтонском ордене он думал одновременно найти и монашескую рясу найти, и военное ремесло.
А поскольку именно в то время добровольцы со всего света собирались в Мальборке для похода против Литвы, мы вдруг услышали, что и наш князь там находится.
Качка, проведав о нём, не сдержался, и так как очень его любил, желая хотя бы увидеть, пошёл к нему.
Было это как раз после того, как Кейстут напал на Ангербург и захватил крепость, а околицы страшно опустошил. Крестоносцы хотели возмездия, а оттого что гостей прибыло достаточно, потому что даже один значительный прибыл из-за моря, из Англии, отправились на Ейраголь и Пастов, где и князь был с ними.
Известно, что такое война Литвы с крестоносцами, где до боя почти никогда не доходит. Нападёт литвин на земли крестоносцев, спалит, уничтожит, заберет людей и уйдет; крестоносцы пойдут в отместку то же самое чинить…
Так было и в этот раз.
Едва князь победоносно вернулся с этими англичанами и, может, задумал вступить в орден, потому что, по-видимому, уже об этом вёл переговоры с магистром, когда в Мальборк пришла весть, что Кейстут с Ольгердом и Патриком, мстя за Ейраголе, прошли огнём и мечом около Рагнеты, и, схватив одного рыцаря-крестоносца, по-моему, Хенсла из Неунштайна, как стоял в доспехах, на коне, сожгли его живьём в жертву богам.
Когда князь о том узнал, начал думать, что подобной смерти было неразумно подвергать себя ради чужого дела.
Крестоносцы, по-видимому, также не очень держали его за полы, потому что, кроме княжеского имени, он мало что с собой мог им принести. И так снова наш князь от крестоносцев двинулся в свет.
– Трудно ему, видно, место нагреть! – шепнул Дерслав.
– И неудивительно, – добавил Мошчиц, – что он не полюбил крестоносцев. Он поехал в Авиньон к папе, от него там чего-то ожидая. Там его тоже не приняли, как желал. Уставший, по наущению монахов цистерцианцев, направившись в какой-то их монастырь, он вступил в их орден.
– Мы же слышали, что он стал бенедиктинцем, – произнёс Дерслав, – хотя между серым и чёрным облачением разница небольшая.
– Подождите, – рассмеялся Мощчиц, – и к бенедиктинцам попадём.
Другие молчали, покачивая головами; эта судьба князя, на которую, казалось, возлагали какие-то надежды, не очень понравилась тем, кто желал ему добра.
– Что удивительного, что у цистерцианцев не удержался, – вставил Предпелк, – орден очень суровый, а люди несносные. Всё-таки для такого, как он, должны были что-то сделать.
– Не знаю, как до этого дошло, – бормотал Мощчиц, – но, по-видимому, седьмого месяца князь из монастыря, в котором уже дал первую клятву, сбежал к бенедиктинцам в Дижон, где его, надевшего уже новую чёрную рясу, нагнали цистерцианцы в костёле, где хотел дать обет.
Я слышал, что начался сильный спор, почти у алтаря, потому что цистерцианцы силой хотели забрать беглеца, а бенедиктинцы его защищали. Монахи поссорились, но те, что были на своей земле и числом превышали, победили и князь по сей день остался у св. Бенедикта.
Когда Мошчиц докончил, долго царило молчание. Дерслав дивно потирал голову.
– Не знаю, – сказал он наконец, – можно ли нам рассчитывать на бедного, разбитого столькими событиями, потерявшего охоту к жизни. Монах не монах, всё-таки нам папа бы его отдал, если его хорошо попросить, но что нам от такого человека?
– Не говорите так, – горячо вырвался Предпелк из Сташова, – именно такой человек, как он, самый лучший для нас, потому что нам будет всем обязан. По свету крутился, правда, места не согревал, потому что судьба его нигде не нашла. Что же ему было делать?
Стефан из Трлонга тут же произнёс:
– Он храбрый, это все свидетельствуют. Пястовская кровь в нём. Чего ещё хотите?
– А при этой крови, – сказал Дерслав, – я хотел бы и Пястовскую голову. Я знаю, что другого Пяста найти трудно, но я бы уж Кажка предпочёл.
Другие поднялись и закричали:
– Этому золотые горы давайте, и то его не заманите. Его уже взял Людвик, он – его, а о короне не думает…
– И нет другого, кроме этого, – докончил Предпелк.
Дерслав задумался.
– Времени достаточно, – сказал он, – сегодня это только оговаривается и составляется заранее. Покусится на Людвига лишь бы с кем и чем трудно.
– Сомневаюсь, – отозвался первый раз, но горячо, до сих пор молчавший Ласота Наленч. – Я сомневаюсь, что с мы королём Людвиком придём к порядку, а он с нами. Для венгров, долматов и итальянцев он, может, такой пан, какой им нужен, а нам ни на что не пригодится… Увидите…
– И мы так думаем, – обращаясь к говорившему, сказал Предпелк. – Мы, сколько нас тут великополян, этого малопольского, краковского короля не хотим. А когда мы начнём, тогда и малополяне одумаются… Нам нужен король, чтобы жил у нас, с нами жил и нас понимал. Тот пусть в Италию идёт, чтобы ему теплей было… мы иного, в кожухе, себе подыщем, такого, что наши кожухи ему смердить не будут.
Начался говор и смех.
– Мы только подождём и посмотрим, – повторил Дерслав, – выберем того или иного, а кого-нибудь иметь должны, и такого, чтобы менять его уже было не нужно!
Тогда другие начали вставать с места, прощаться и выходить, и Ласота вскоре остался наверху наедине с Дерславом.
IV
Дерслав Наленч не был ни в своей семье, ни в своей околице, ни на своей земле человеком большого значения.
С людьми он жил хорошо, слушали его охотно, но влияния ему никакого не приписывали, а он сам, когда ему кто-нибудь давал понять, что на это влияние рассчитывал, отпирался как можно сильнее.
Землевладелец он был богатый и принадлежал к распространившейся верхушке, которая много в стране значила. Его, может, больше, чем других, интересовала судьба рода и доля края, но, суетясь около обоих, он, казалось, специально заслоняется другими. Он предпочитал, чтобы то, что делал, шло на пользу другому, славы от этого не искал, а может, и заботы, какую она за собой тянет, хотел избежать.
Те, кто очень близко его знали, называли хитрым, иногда, смеясь, лисом, а это было несправедливо, потому что Дерслав ложью не пользовался и другим её не прощал, всегда шёл прямой дорогой, не любил только ради святого покоя делать это чересчур заметным.
Мало кто знал, как много Дерслав мог и делал, сколько подавал идей, как мог расшевелить и растолкать людей, ведь ни одно более или менее важное дело не обходилось без него. Признавали его потом за кем-нибудь другим, он не объявлял о себе, улыбался только.
Несмотря на то, что он был привязан к дому и жене, хотя любил детей и уже возрастом мог бы объяснить, что обеспечил себе отдых, Дерслав от привычки к авантюрам и суматохе не мог ничего проспать.
Был какой-нибудь шляхетский съезд, Дерслав всегда там присутствовал; двигалось что-нибудь или закипало – бежал сразу. Звали в Краков – готов был всегда.
Эти времена, начиная с Пшемковых, не говоря о более древних, были в Великой Польше неспокойными. Сидеть за печью мало кто мог, одному на тракт выехать трудно было отважиться. У границ грабили саксонцы и бранденбуржцы, из Силезии также прибегали разбойники.
В самой Великопольше их намножилось с Борковича, брат его и сын мстили за умершего. Другие по их примеру отправлялись на лёгкий заработок на дорогах. Грабили заморских купцов, а когда тех не стало, бросились на своих. Семьи ссорились друг с другом, затем, не ища справедливости в судах, сами её себе оружием добывали. Нападали на владения духовных лиц, занимали леса и королевские заброшенные земли.
Беспорядок становился всё больше; великорядцы за глазами короля справиться с ним не могли. Уже при Казимире, который редко заглядывал в Великопольшу, Боркович начал возмущать умы, провоцируя своих земляков против малополян, Кракова и королевской власти.
Именно там, где по причине близкого соседства крестоносцев, Бранденбургов с их саксонцами и силезцами нужен был наивысший порядок и бдительность, их было меньше всего. Ни один великорядца справиться с великополянами не мог. Обольщали их часто соседи, а возмутителям это было на руку; когда мутилось, ловили рыбу в мутной воде.
Пану Дерславу, хотя бы хотел спокойно сидеть у костра, время не позволяло, а он сам к этому охоты не имел.
Ещё перед прибытием в Краков на коронацию он убедился в Познани, что почти все были против будущего короля Людвика.
Великопольша гораздо сильней, чем краковяне и остальная Польша, поддерживала кровь Пястов.
Кричали, что покойный король не имел права распоряжаться землёй, которой правил пожизненно.
Потом начали требовать, чтобы по крайней мере короновался в Гнезне, чтобы сам жил в Польше; наконец во время коронации и погребения гордость и пренебрежение венгров дополнили меру. Начали говорить о другом Пясте и другого себе короля искать.
Не Дерслав это выдумал, но кость от кости великополян, он разделял их чувства, а когда раз на эту дорогу вошли, зашагал и он с ними. Весы склонились на сторону того Владислава Белого, о котором Мошчиц так долго рассказывал историю. Он не очень был по вкусу Дерславу, но иного под рукой не имели, поэтому на всякий случай нужно было лучше эту вещь рассудить и ближе узнать.
Когда они остались наедине с Ласотой, Дерслав, поправив огонь в камине, развязал пояс, налил вина себе и ему и, грея ноги, начал тихую беседу:
– Ты бывал на дворе, – сказал он Ласоте, – что ты думаешь, как нам с этим Людвиком будет? Ты присмотрелся к нему? Что там около него слышно?
Ласоте было нелегко так сразу говорить, нужно было, чтобы его подожгли. Он пожал плечами, пробурчал что-то невыразительное.
Дерслав внимательно на него смотрел; он знал людей, догадался, что от Мрука не добьётся ни слова; разве что, должен будет понемногу тянуть его за язык и допрашивать.
– Что на дворе говорят? Сначала о королевском завещании? Удержат его или нет?
Ласота покачал головой, но ещё не отозвался.
– Как там на ксендза Сухвилка смотрят? – добавил Дерслав.
Ласота сделал двусмысленную мину и простонал:
– Его должны щадить, потому что имеет значение, но не любят его…
Дерслав потёр руки, видно, это его радовало.
– Пусть разорвут завещание, – сказал он, – тем лучше, король увеличит число врагов.
Он задумался на мгновение и вздохнул, и, обращаясь к Ласоте, добавил:
– Только что тут у нас по-старому, на языке много… Люди накричатся, наругаются, навозмущаются, баламутам король подарками рот закроет, не захотят себя шишкам подвергать, и – будут его слушать.
Ласота покраснел и только теперь его прорвало, даже старший удивился.
– Ну, пожалуй, нет, – сказал он, – пожалуй, нет! С этим королём мы не выдержим. Когда ксендз-епископ Флориан с ксендзем Яном поехали за ним в Буду, хоть ему корону везли, которую старая Елизавета так для него жаждала, сначала даже на путешествие в Краков его склонить было трудно. Торговался, отказывался, тянул… Только мать его подгоняла… и чтобы не мог отказатся, сама поехала впереди… Принимали его в Сонче и Кракове, знаете как… как спасителя, как отца, а он – носом на всё крутил. Теперь как можно скорее хотели бы забрать сокровищницу, захватить деньги – и Людвик думает только, как бы скорей вернуться в Буду.
– А кто же здесь будет править? – спросил Дерслав.
– Всё-таки старая пани, – ответил Ласота презрительно, – и её молодые любовники… Завиша, Добков сын, и много других в великих милостях… Лишь бы кланялись бабе, говорили сладости и забавляли ее, всё позволит.
Опольчика, может, на Руси посадят, в Великопольшу также, наверно, пошлют кого-нибудь более им приятного.
Ласота махнул рукой.
– Узнаем теперь, как под чужим быть… – пробормотал он и сел.
Дерслав ничего не отвечал.
– А ты что думаешь делать? – спросил он. – Останешься при дворе, или нет?
– Нет, – решительно и с некоторым возмущением ответил Ласота, – я подхалимом быть не умею, а тут теперь такие нужны, что и кланяться, и лгать умеют.
– Что же предпримешь?
– Ха! – воскликнул Ласота. – Сам точно не знаю. Наследство щуплое, возвращаться в деревню мне тоскливо, к людям привык… Буду искать рыцарской службы и ждать лучшего времени.
Дерслав покивал головой.
– Слушай, – сказал он, – нам в Великопольше будут нужны такие люди, как ты… Возможно, какое-то время будет спокойно, потом замутится и закружится… Возвращайся со мной, сядь в Познани, запишись там к воеводе, какой там будет… Ты пригодишься нам… Правда, что мы не очень красноречивы, но нам, по-видимому, больше руки, чем язык, будут нужны.
Ласота задумался.
– На дворе покойного было вас, великополян, достаточно… было бы неплохо, если бы ты их с собой вытянул. Краковяне хотят править сами, мы этого не вынесем, придёться с ними раздружить, нужно выбрать оттуда своих, пусть не пропадают.
И, подумав немного, Дерслав доложил:
– Из всего вижу, что наши братья рассчитывают на Белого, и хотя бы попробуют его к себе привлечь. Мы не можем отделяться от своих. Пусть будет и Белый, чтобы великополяне показали, что тоже чего-то стоят. Если будет заварушка – нас потом будут больше уважать.
– А на нашего Пжеслава из Голухова как там смотрят? – спросил старик.
Ласота был снова в молчаливом расположении и не быстро собрался отвечать.
– Косо на него смотрят, – сказал он наконец, – ничего не знаю, но мне кажется, что он недолго на великорядцах посидит.
Дерслав рассмеялся.
– Тем лучше, – сказал он, – потому что и его нам дадут, а он нужен, и краковяка нам пришлют, тогда уже меру дольют! Что-то должно быть, пусть будет к хорошему!
Уставший Дерслав встал и зевнул, потягиваясь.
– Поздно, чёрт подери, – сказал он, – я бы уже спал, да и ты, наверно, после сегодняшней службы уйти бы рад. В замок тебе не пора идти, а там, может, венгры на твоей постели потягиваются; прикажу тебе сюда соломы принести и одеяльце прислать.
Сталось, как хотел хозяин, и, выпив ещё по кубку на сон, оба легли.
Назавтра, прежде чем Дерслав пробудился, и храпел ещё вовсю, Ласота вскочил со своей кровати, на цыпочках вышел и пошёл в замок. Старик, точно напророчил, потому что, когда он спешил в свою комнату, слуги в прихожей, которые спали у двери, укутавшись в старую епанчу проснувшись, объявили ему, что венгры, выпив, утром выломали у него двер и, силой вломившись в комнату, спали.
Было их, как говорил, трое, поэтому Ласота один лезть в драку с дерзкими наглецами не думал, а так как в доме уже все были на ногах, он пошёл к маршалку королевских венгров с жалобой.
С тем, который уже сидел над горячей полевкой, и говорить было трудно. Вместо того, чтобы прийти в помощь выпихнутому из собственного жилья, он начал его ругать ещё за негостеприимство и угрожать.
Таким образом, Ласота ушёл ни с чем и должен был собрать нескольких своих самых крепких слуг и тех, кому уже венгры докучали, и, только тогда вбежав в свою комнату, проснувшихся и хватающих оружие венгров выбросили прочь. Это не прошло без шума и драки, без криков, на которые ещё больше венгров прибежало на помощь своим.
Тогда начали и поляки отовсюду прибегать, с радостью, что потрепят дерзких, и закончилось бы кровью, если бы не прибежал старший над венграми и, сообразив, что бой может быть не в их пользу, не забрал своих с собой силой.
После этого Ласоте уже было нечего делать в замке, где больше ничего, кроме мести, не ожидал; поэтому он тут же начал собирать, что имел, приказал привести своих коней и накладывать на них вьюки, чтобы идти прочь из замка.
Другие, заметив это, старые Казимировы придворные, тоже по тревоге бросились выезжать из замка.
Произошёл сильный шум, и те, кто спал в эту пору, проснулись. Венгерский двор, увидев поляков, сосредоточившихся и собирающихся покинуть замок, сообразили, что из этого ничего хорошего не будет. Кое-кто из венгерского начальства пришли расспрашивать и уговаривать помириться, но слушать их не хотели.
Тогда венгры должны были прибегнуть к какому-либо посредничеству, и послали к Кжеславу Рожицу, сыну Добека, чтобы пришёл им на помощь. Он прибежал, запыхавшись, и когда ему объявили, о чём речь, поспешил к придворным, спрашивая о причине.
Ласота даже не хотел отвечать, но на его место выступил Пелка Сренявчик, называемый Покрывкой; язык у него был хорошо подвешен.
– Для нас здесь в замке нет места, – воскликнул он. – Мы сами предпочитаем покинуть его, чем ждать, чтобы нас посадили в темницу. Панам венграм тесно, они должны широко разложиться… Выломали дверь у Ласоты и устроились у него, непрошенные, завтра со мной это сделают. У князя Яна из Чарнкова, если бы не железная дверь, было бы то же самое, потому что и туда ломились. Нужно заранее собирать кто что имеет, а то завтра и капюшона не вынесем отсюда.
Другие, выкрикивая, потакали Пелке, так что Кжеслав не знал уже, что им говорить.
– Помните только, – отозвался он, – что милости короля вы этим не заслужите, а всё-таки в ней нуждаетесь.
Только тогда Ласота воскликнул в гневе:
– Наверняка!
Кжеслав смутился.
– Надо было жаловаться, когда случилась несправедливость.
– Чтобы нас ругали? – заговорил Ласота.
И так Кжеслав, то угрозами, то просьбами напрасно пытаясь остановить сметение, не добился ничего. Все, что держались с Ласотой, нагрузив своих коней, тут же двинулись из замка в город.
Некоторые из более робких на время отложили это.
Видимо, дали знать королю, который пожал плечами, усмехнулся и, казалось, его это мало заботит.
А так как и старая королева любила всякие слухи, желая обо всём знать сразу, Завиша, побежав за братом, поспешил к ней с докладом.
Она сначала приняла это чуть близко к сердцу, но ничем не помогла, а через час забыла, что произошло.
Королевский двор в этот же день делал дорожные приготовления, потому что Людвику очень нетерпелось избавиться от поездок в Гнезно и Великопольшу, куда его тянул ксендз архиепископ Богория. Поэтому венгры не имели времени поясничать и день этот прошёл как-то спокойно.
Вечером, как обычно, старая королева забавлялась.
Слышна была музыка, по теням в окнах видны были танцующие, а смех долетал прямо до дворов. Король там у матери не гостил долго, другие, особенно те, кто будущей пани хотели записаться в милости, просиживали, пока велела петь, и слушала льстецов.
Из старого двора покойного короля мало кто там был, но новых людей, раньше менее известных, сбегалось достаточно, и поляков было хоть отбавляй.
Тут уже можно было отгадать, кто в будущем пойдёт в гору, а кто попадёт в немилость. Тех, что льнули к старой пани, она принимала очень любезно. Веселостью, лестью и красивой внешностью привлечь её было легко. Её также по большей части окружала молодежь.
Когда это происходило в замке, Ласота, уехав прочь, занял постоялый двор у знакомого мещанина на Гродзкой улице, переоделся и пошёл к Дерславу, потому что теперь уже он не имел дел, только держаться со своими.
Он застал его над миской; он ел то, что ему сварили дома.
Увидев Ласоту, Дерслав, который уже узнал об утреннем приключении, потому что это разнеслось по городу, поздоровался с ним.
– Ну что? Венгры взяли верх?
– До времени, – сказал Ласота, – я выехал из замка.
– Ну, и со мной в Познань?
– Как прикажете, отец.
– Ты умён, – ответил Дерслав. – Достань из-за пояса ложку, потому что всё-таки без неё не ходишь, отрежь себе краюшку хлеба и ешь, что Бог дал. Хватит на двоих, потому что на четверых готовили.
Ласота, не давая себя просить, сел к миске, как следовало.
– Вроде завтра король с архиепископом едет в Гнезно, кареты уже готовы.
– О! О! – воскликнул Дерслав, перестав есть. – А не знаешь, повезут ли с собой корону? Многим людям он закрыл бы рты, если бы короновался в Гнезне.
– Я думаю, это не может быть, – отозвался Ласота. – Я слышал при дворе, что королю эта двойная коронация кажется смешной. Но он поедет поклониться могиле св. Войцеха.
– Гм, – сказал Дерслав, – нам тоже там нужно быть, чтобы знать, как это пройдёт. Что нам гоняться за королём, лучше его опередить. Мне уже тут нечего делать. Пан Пжедислав из Голухова тоже сегодня выезжает вперёд. Ты с конями готов?
– Я всегда готов, – сказал Ласота, – ничто меня здесь не держит.
– Ба! – рассмеялся старик, который любил иногда пошутить. – У тебя нет здесь никакой мещаночки, чтобы наедине попрощаться?