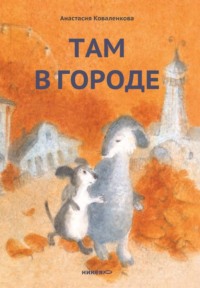Полная версия
Хорошие люди. Повествование в портретах
Сосед довольный, мокрый по пояс, в полях нынче сырость. Промок, зато набрал. И как не побоялся по такому туману бродить… Оно понятно, он тут с рождения живёт, не заблудится.
Проплывёт этот день через жизнь деревни, у каждого по-своему. Вечером соберутся на террасах, чаёвничать, станут обсуждать, что за день случилось. У тётки Анны коза заблудилась, так насилу нашли. Творог, оказывается, привозили, машина-то сигналила-сигналила… А полдеревни творог прозевали, разбрелись кто куда, без творога остались. Но никто не в претензии, не ворчат. Успокоил людей туман. Отхлебнув чая, поглядывают в окна, прикидывают, обсуждают, куда погода повернёт.
А на улице-то, глядишь, и нет уже никакого тумана. Никто не приметил, как он исчез. Темно и ясно небо. Звёзды глядят. Завтра за грибами пора.
Глава 5. Ружьё
– Босоножки-то?.. Это тебе деда Миша зашьёт. Если возьмётся… – сказала наша хозяйка.
И пошла я в конец деревни, к деду Мише, сапожнику. Жили они с бабой Маней одни, детей не родилось. Изба стояла не огороженная, на холме, сбегавшем прямо от порога зелёным раздольем вниз, к ручью. Ах, какой хороший у них был дом!
Ничего-то особенного в нём вроде. Ну, серая изба. А так всё к месту прилажено, всё в меру. Была тут спокойная уважительность к каждому предмету, пусть старому, служивому, но нужному. Другие ничего не выбрасывают, всё тащат, и навал выходит, бесхозность. А у них хозяйство малое и заботливое. Вот стоит у венца избы кадка с маргаритками, ей сто лет, поди, а каждая досочка ровная, и выпавшая, вон, новой плашечкой заменена. Дальше трава просто вдоль сруба, но подкошена она коротко, бабой Маней. Раньше, в колхозные времена, на покосе ровней и скорей её ни одна баба не шла.
И стелется эта зелёная дорожка за дом и между тремя старыми яблонями, там, где у других обычно лебеда-бурьян. Ветви лишние обпилены, побелены, а какие подпёрты слегами. Обернув дом, травяная полоса бежит мимо ореховых жердей, с надетыми для просушки банками, возвращается к крыльцу. Оно высокое, с протёртыми посерёдке досок лунками и отмытое добела. Рядом с их домом даже сорванный одуванчик задумаешься, куда бросить.
Жили они тихо и разговаривали промеж собой неспешно, не так, как другие в деревне.
Одна беда: посреди лба у деда Миши росла большая шишка. Опухоль эта была как пробка от бутылки, обтянутая кожей, и выглядела страшно. По ночам шишка у деда болела. Болела она так сильно, что, проходя затемно мимо избы, я слыхала, как дед стонет, а иногда и кричит. А ещё ему было больно нагибаться, и ходил он всегда с высокой палкой, которой поддевал с земли нужную вещь.
Деревенские его сторонились. Шишка ли была тому причиной или что-то другое, я не знала, но настороженность чувствовала. Дед был хороший мастер. И часть деревни чинилась у него, а другая – носила обувь на станцию, аж километров за пять.
А дружить с ним вообще никто не дружил. Деда Миша в общение не лез, если кто заговорит – улыбался и отвечал ласково. На деревенских сходах стоял он позади всех, опершись на свою высокую палку обеими руками и подбородком, слушал. Потом медленно уходил к себе. И жил, соблюдая то, что порешат.
Мимо я ходила часто, а вот за починкой отправилась в первый раз.
Дед сидел у крыльца под кустом белой сирени, на длинной некрашеной лавке. Опрятная рубаха застёгнута на все пуговицы и заправлена в штаны. Фуражка сдвинута на затылок, не налезает она на шишку. Лицо у деда Миши спокойное, с носом картошкой и очень большими голубыми глазами. Глаза такие широкие, кажется, что он всё время удивлён. Между колен зажат сапожный станок, с ботинком.
Дед закрепил нитку узелком, резаком отхватил лишний кусок кожи, снял ботинок и, покрутив в руках, поставил на лавку. По левую руку от него стояло три готовых пары, а на земле лежала горка нечиненого. Палочкой он поддел оттуда туфлю, взял в руки.
– Здравствуйте, деда Миш. Вот – порвались…
Дед долго поглядел на меня, как-то сквозь. Опустил глаза.
– Не возму работу, – он насупился и даже сердито повторил: – Не возму.
– Так тут немножко…
– И иди отсюда! И… и не проси даже! – он замахал на меня туфлёй. – Уходи, говорю. Нечего тебе тут…
Я поскорее ушла. Странно это было – такой мирный дед… и прогнал?
– Не взял? – хозяйка кивнула на босоножки в моих руках. – Ишь… От греха тебя бережёт.
– От чего?
– От того, от греха своего. – Она разогнулась над тазом со стиркой, сердито стряхнула пену с рук. – Не моё дело, и хватит тут разговоры говорить, – обрезала она и ушла в дом.
* * *В воскресенье позвала меня тётя Маруся, староста деревенская, с мобильником помочь ей разобраться – «сын сообщение прислал, а я никак не отвечу…». Сидим мы на брёвнышках перед домом, а мимо – деда Миша с бабой Маней по дороге идут. С палочками оба, размеренно, видно, что далеко собрались.
– Вон, пошли… Старые уж, ноги – никуда, а всё ходят! – Маруся была баба болтливая и злая на язык.
– А куда они?
– Дак в храм, служба ведь сегодня в Лужках. У нас-то – по праздникам только служат, а в Лужках кажное воскресенье. Уж сколько лет ходят. Всё грех Мишкин отмаливают! Отмолишь его, как же…
– Какой же грех?
– Да ты, почитай, всю жизнь в деревне живёшь, дачница, а не знаешь?! – Маруся села прямо, разгладила юбку и, нехорошо улыбнувшись, хлопнула по колену рукой. – Убивец он, деда Миша. Расстрельщик.
Я молчала.
– В людей он стрелял, по приговору. Их, братьев, двое было, он и младший, Григорий. До войны ещё оба они в армию пошли, в один призыв, я тогда девчонкой была. Вот они вместе в войска НКВД и попали. Григорий, тот сильно верующий был, а его – возьми да назначь на расстрелы эти. Мишка-то за него и вызвался, самый грех на себя взял. И расстреливал! Приговор в исполнение приводил. Тогда в затылок стреляли, в колидоре специальном. Вот и стрелял! Уж и не знаю, сколько душ на нём…
Маруся остановилась перевести дух. Слева, на дороге, ещё виднелись удаляющиеся старики.
– А как вернулись они, Мишка-то пил сильно, да выпимши всё плакал. Вот тогда-то у него ружьё и выперло! – Маруся постучала пальцем в лоб. – А ты думала?! Ружьё это. Аккурат там, где пуля проходит, оно и выросло, прямо дулом вперёд и торчит. Это грех его пророс! Сам он говорил, да вся деревня знает про то. Так с грехом своим весь век и ходит, перед народом! – Маруся отчаянно развела руками, показывая, как ходит.
Помолчали…
– А брат? Где он?
– Григорий? – Она махнула рукой. – Так вскорести война пошла, их обратно в армию позабирали. Вот Григорий и погиб. А Мишка живой остался. Дождалась его Маня, так он и пришёл, целый. Тихий стал, стороной живёт. Он вроде как заразным себя считает, людей от греха бережёт. Кто им брезгует, а другие – ничего, обувку чинить носят. Мужиков-то в деревне не осталось, а этот вот – уж восемьдесят годков с лишком, а всё с грехом ходит! – сердито повторила она.
– Я ему босоножки носила, не взял он…
– Так потому и не взял! Он завсегда различает, кто со знанием к нему пришёл, а кто так, сдуру. Говорю ж, людей бережёт. Теперь вот сходи, если решишь, твоё дело…
* * *Он сидел там же на лавке, с работой. Глянул на меня, чему-то кивнул…
– Опять пришла? Ну, давай их. Сама раз решила…
Деда Миша подвинулся, предлагая место:
– Тут, гляжу, токма подошва да хлястик вон… Обожди, сразу сделаю.
Дед взял коробку с дратвой, стал примерять нитку, ища годную по толщине.
– А незнаемому человеку рядом со мной нельзя, – спокойно заговорил он, роясь в коробке, – инфекционный я. Зачем людя́м это, не нужно оно совсем. Грех такой… Коли сам уж человек, знаемо, придёт – другое дело. – Дед выбрал нитку. – Эта вот вроде подходит, крепко будет.
– А как вы… узнаёте?
– Так намостырился уж за жизнь разбирать по лицам. С таким стыдом ходить – поймёшь, кто знает, кто не. – Он поглядел перед собой, неловко улыбнулся. – Взгляд другой становится. Внимательный.
Дед ухватил конец дратвы, прицелился, щурясь в иглу, вдел. Начал шить.
– Да ты меня не чинись, растревожить не бойся. Я кажный день с этим встаю, с этим и ложусь. Вон она где у меня, память-то, сидит.
Он оставил работу и пальцем потрогал шишку.
– А тому, что говорят, будто брата я выгораживал, – тому не верь. Это Григорий врал, что я за него вызвался. Меня назначили, я и стрелял. Жалел он меня очень. Добрый человек был, Бог его-то прибрал, да от меня отказался. Теперь рассуждаю, что мне же и в науку – живи вот, думай. Так что убивец я. Он самый и есть. Убивец.
Деда Миша говорил медленно, в лад стежкам. И так просто, как про вчера. Словно доставал из коробки, из-под руки.
– Спужался я тогда сильно. Откажешься, так самого и стре́льнут, как дезельтира. Оно строго было. И дрожит всё внутри, и подсказывает, что, мол, может, и ничего, может, верно оно, коли приговорили, и должон кто-то исполнять, раз народная власть решила. Да разве ж себя обманешь? Всё одно знал, что грех. И ведь что ещё думал?.. – Дед поднял морщинистую руку с зажатой иглой, потряс в воздухе. – Красота вокруг, весна, нас уж отпустить должны, по домам, значит, а сады вот зацветут со дня на день, а я-то и не увижу, как откажусь. Вот так думал.
Он снова склонил голову к работе, с усилием протыкая иглой трудный кусок.
– И пошло… И пошёл. Я на должности этой неделю и пробыл, а там уж службе срок вышел. Ведь на то сердце и надеялось, когда страхом дрожало. Молодой был, думал, исправлю потом, как-никак. А это, мил, разве чем исправишь? Жизнь, она цельная, её вот так вона, – он похлопал по подошве, – не нановишь.
Деда Миша срезал нитку, зубами подтянул узел накрепко, ещё обрезал…
– Миш! Ты огурцы укрыл, что ли? Заморозок обещали… – раздалось из открытого окна избы.
– Укрыл уже. Слышь, укрыл!.. Глухая она стала у меня… – добавил он тихо, прилаживая на станок другую босоножку. – …Вот и вышло, что не нановишь. Поначалу-то рвался, думал – перемогну, горькую тоже пил, кричал. Маня вон сколько вытерпела… А как шишка-то, ружжо моё выперло, так понял, что носить мне его, пока жив. Навроде ордена перед народом, во. Опамятовался я тогда, утих, значит, да всё на войну надеялся, думал, заберёт она меня. И то не вышло…
Порыв ветра зашумел в кусте сирени, зашевелил траву. Дед мельком глянул на небо.
– А вышло то, что мысль эта мне думается цельную жизнь. По ночам теперь умереть хочу, терпежу не хватает. А утро встанет, всё живу, даже радуюсь. И болит душа грехом, и тем же местом она, душа, красоту принимает. Красота вокруг ведь какая!
Он сильно махнул головой на холм, ручей… и заморщился от боли, от резкого движения. Замер, потом осторожно подвинулся на лавке, ища положения телу, снова взялся за иглу.
– И так выходит, что всё в ней вмещается, в душе-то. И места хватает. А где она сама есть, не изучили ещё. Я вон сколько ею маюсь, и не пойму, где она у меня, душа эта… Ну, гляди, готовы твои, кажись.
Он взял обе босоножки, вытянул руки вперёд, осмотрел пару и, хлопнув подошвами, протянул мне:
– Держи вот. Ещё поносишь.
Я поблагодарила и неловко расплатилась. Деда Миша тоже засмущался, заторопил меня:
– Надувает вон… Беги, пока дождя нет.
Я пошла.
Когда спускалась с холма, налетел порыв ветра. Отвернув от него лицо, я увидела, что деда Миша ещё сидит на лавке, собирает инструмент. Ветер трепал сирень у него над головой, и с неё сыпались белые звёздочки. Они падали на фуражку деда. Он снял её и медленно отряхивал…
Интерлюдия. Птицы
Слетелись они и загалдели по полям, по рощам.
И столько их, что сразу понятно: хозяева вернулись.
Весь день, кувыркаясь на ветру, разбираются, кому где селиться. Сейчас не до песен им. Ругаются, щебечут, курлыкают, верещат.
Маленькие синицы целой гурьбой засели в сосне и всё спорят и спорят с толстой сорокой. Сорока не выдержала, улетела-таки, поспокойнее место искать.
Потом гордо прошествовала по небу огромная серая цапля, наискосок, размашисто, медленно. А напоследок крикнула страшным своим клёкотом. Крик у цапли жуткий. Улетела.
Дрозды вон бестолково носятся весь день туда-сюда. Бултыхаются в воздухе, дерутся. Но всё же разобрались к вечеру, стихли.
И ветер стих на закате. Уже в сумерках вышла я за дом, к тлеющему кострищу. Чуть дымит кучка сыроватых прошлогодних листьев, мигает в глубине огоньком. Тихо.
А потом, в тишине, странное шелестенье-хлопанье зазвучало. Где это? Это в небе. Задрала голову: гуси надо мной летят, ровным косяком, шеи тянут, всхлопывают крыльями мерно. Перекликаются негромко, потом опять затихают, только взмахивают сильно. Слышен шорох в их перьях: шух, шух…
Сейчас скроются. Почти успела сосчитать: семнадцать или пятнадцать…
Ну что ж, все уж вроде вернулись? Ан нет, не все.
У нас за домом, на крытом дворе каждый год селятся две ласточки, муж и жена, живут, птенцов растят. Так вот они ещё не явились, задерживаются что-то.
Другие-то ласточки уж слетелись, на чердак заселились. Да тех, чердачных, я не различаю. А этих двух в лицо даже знаю, и мужа, и жену. Жду их каждый раз, думаю: «Они же полгода так же у каких-нибудь египтян живут, под какой-то крышей. Тоже семья там, небось, как и у нас, только смуглые. Вот я их, ласточек, знаю, а они – нашу семью знают и тех, египетских. А те, египетские, ласточек знают этих, а нас – нет. Египтяне их, наверное, тоже любят, ждут, пока они тут…»
Когда они возвращаются, я радуюсь. А они сидят на верёвочке под крышей, прижавшись друг к другу, обдрипанные такие, худенькие. Будто сомневаются – так посидим или уже строиться будем? Устали. А потом ничего, отъедаются. И птенцов у них всегда полная мазанка.
Что-то они в этом году запаздывают… Может, случилось что? Я уже волноваться стала.
И вдруг – прилетели!
Но нет, не прилетели, а только одна, одна она прилетела. И сидит на той верёвочке, нахохлив красную шапочку, и ждёт.
А он-то где? Где ж ты его потеряла?! Молчит. Вылетит на улицу, поносится за мошками и снова – на верёвочку, против пустой мазанки сядет и ждёт. И не спросишь же, что случилось. Отстал он, погиб?
Проходит неделя. Началась другая. И сердце у меня совсем не на месте.
А она всё сидит грустная, даже строиться не начинает. И другого мужа себе не ищет, бедная.
Зашла я вечером на двор за дровами, привычно посмотрела под крышу… А там – двое их. Вот он! Облезлый совсем, одно крыло короче другого, притулился, голову на спинку её положил и спит. Догнал, значит, долетел-таки!
Тихо взяла я дрова и ушла.
Утром они уже весело носились туда-сюда, с прутиками в клювах, подновляли гнездо, выпархивали в дверь прямо над головой. Я загляделась на их шнырянье. И вдруг они сели рядом на ту верёвочку против меня, замерли, а потом стали по очереди что-то тихо чирикать, на меня глядя. Я постаралась осторожно поддержать разговор, сказала, как их люблю, как рада его возвращению, живите, мол…
А сама думаю: ведь они мне рассказывают, что у них случилось. А я ни слова не понимаю! Так и не узнаю их историю.
Прошёл день. И ночью зазвучали вокруг птицы таинственные. Филин ухает за церковью, в ольшанике: загадочное и протяжное «ух-хууу». В темноте оно спокойно так звучит, а заканчивается чуть грустно – «ууууу».
Сова из терновника ему отвечает. Она не так весомо говорит, у неё торопливое «угу-ух».
Филин выслушает. И снова своё.
Вдруг раздалось из терновых кустов чёткое такое хлопанье, звучное. Будто кто-то себя по парусиновым штанам ладонями хлопает. Это сова филина пугает, специально вот так крыльями схлопывает. Попугала-попугала и взлетела на охоту. Прошла низко, совсем над моей головой, напугала и меня. Белая, широкая, а летит призрачно. У неё над нашей тропинкой своя тропа, воздушная, между ивами и туда, за деревню. В темноту полей.
Замерла тишина. И вдруг из оврага, из самой черёмуховой непролазности – защёлкал, защёлкал, перекатил, стих…
Помолчал. А потом как полил трель, как на вдохе одном заиграл переливами, щелчками, высвистами. И всё не вдохнёт и не вдохнёт, как воздуха-то ему хватает? Маленькая ты птичка, неказистый ты, соловушка.
Соловейная ночь сегодня, первая за весну. Ноги уж намокли в травяной росе, холодно, а всё никак не уйдёшь в дом, всё стоишь в темноте.
Глава 6. Без Зинки
– Ведь всё уж поклал! Всё! И даже полати, и под вьюшку щель оставил, ну уж всё! Так вот надо ж, чтоб эдак…
Семён стоял передо мной на крыльце, мял в измазанных глиной руках кепку с выгоревшим «адидасом» и почти плакал.
– А что случилось-то? Ты ж ещё вчера вроде доделывал.
Семён был печник, и мастер чудный. Печи выходили у него мировые. Ровные, топились ладно, дров ели мало, жар держали – больше суток. Сокровище, а не печник.
Сейчас клал он печь Боре Ефимову, художнику, тот дом в деревне купил. Русскую, разваленную, разобрали, Семён ему голландку ставил. Она компактнее, и дров меньше уходит. Дело-то к концу уж шло…
– Да и доделал бы, кабы бес не попутал! Я ж знаешь сколько их за лето уложил?! Власовым две поставил, Вадиму тож, Гульковым, – Семён сунул кепку в карман пиджака, торопливо загибал пальцы рук, его трясло. – Теперь вот – Боряну! И все справные, чтоб брак там али криво, это – ни-ни…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.