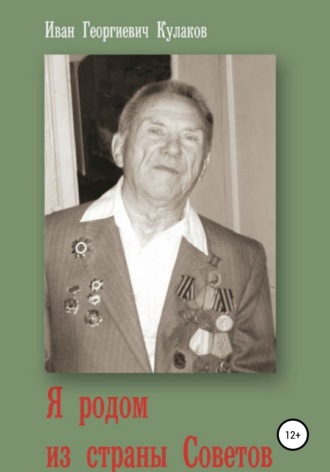
Полная версия
Я родом из страны Советов
Папа мне тогда все краски покупал – думал, что я буду художником… Но мы потом с Мишкой поняли, что художниками нам не быть, и прекратили этим делом заниматься. Впрочем, в этой изостудии я научился ценить искусство, понимать, какая картина хорошая, почему она хорошая, а какая – плохая… И это мне очень помогло – я даже сейчас картины покупаю. А потом я еще стал фотографией заниматься…
Летом мы отдыхали – ходили на стадион. Стадион находился в Москве около реки – там сейчас Центральный стадион им. Ленина, но его теперь называют просто Центральным. Тогда целыми днями там играли в футбол и купались – я научился нырять… Почти на середине Москвы-реки мы ныряли так, чтобы дно достать; девочки наши на берегу сидели, а мы хвастались перед ними: заплывем на середину реки, нырнем, потом грязь в руке показываем – мол, до дна достали.
А чуть левее этого стадиона были пристани – по Волге и Москве-реке баржи туда приходили с продуктами, овощами, фруктами, рыбой… Мы у этих барж кормились. Мы познакомились с рабочими, которые эти баржи разгружали. Они там работали и не могли никуда сходить, чтобы купить что-нибудь поесть… Они нам давали денег, мы бежали покупать им колбасу, хлеб, водку (тогда детям спокойно продавали водку), пиво… Мы им все покупали, приносили, они на какое-то одеяло это раскладывали и ели. А что у них оставалось – мы доедали. А там еще надсмотрщики были, и рабочие, чтобы нам дать арбузов или дынь, например, как будто нечаянно роняли ящик, он разбивался, надсмотрщики его списывали, ну и нам отдавали – мол, пусть ребятишки едят. Мы и уплетали эти груши, арбузы, дыни – сколько чего только ни ели! Вот мы как есть захотим – так сразу на баржу эту. Конечно, нас не каждый день там кормили, но все-таки часто…
Путь к этой пристани лежал мимо Новодевичьего монастыря, а там тогда был пруд. В этом пруду мы купались… А между прудом и Москва-река были поля, засеянные огурцами, морковкой, брюквой… И мы все время ходили воровать эти овощи.
В скором времени человек десять восьмиклассников перевели во Вторую Образцовую школу. Обычные школу в Москве были 3-4-этажные или даже 5-этажные, а эта школа была в два этажа. Видимо, она специально была построена для детей больших начальников. А этих детей почему-то стало очень мало, и классы там были полупустые – вот и решили часть детей из нашей школы, где была перегрузка, перевести в те классы. В этой школе все было по-другому. Во-первых, сами ученики: папы-мамы у них числились в начальниках, и ребята были очень начитанные, грамотные, одевались хорошо, вели себя вежливо, культурно… А мы даже не знали, что такое душ, что такое ванна, которыми они-то пользовались запросто. И когда мы туда пришли, они принимали нас неприятно – разговаривали с нами, как с людьми второго сорта. И действительно иной раз они говорят нам что-то, а мы и не понимаем, о чем они говорят. Преподаватели там были исключительно хорошие, квалифицированные. Помню, там одна девушка была – очень грамотная, умная, но не очень красивая, ее мама, академик, учебник истории написала, по которому мы и учились. Еще у одного парня – Мишки – отец был главным конструктором паровозов. У некоторых детей родителей расстреляли в 1937 году по приказу Сталина – как изменников родине. Например, одну девушку тогда называли то одной фамилией, то другой, потому что настоящей фамилией везде называться нельзя было – тогда преследовали не только родителей, но и их детей, всех в Сибирь ссылали. Были среди родителей и генералы, которые тогда уже работали… Их семьи жили в больших пятиэтажных красных домах, там были замечательные квартиры, ванны с душем, отдельные комнаты для занятий спортом. Я как-то попал в друзья к одному мальчику из такой семьи, ходил к ним в дом. Его отец тогда подарил ему две пары боксерских перчаток, чтобы он со мной мог упражняться. И вот мы после занятий ходили к нему домой и начинали там боксировать… Выходит, я там у него был как груша, как мальчик для битья. Тренировался он на мне. Правда, я один раз разозлился и чуть его с лестницы не спустил…
В своей прошлой школе мы считались средниками, а здесь лопухи-лопухами оказались. Мне было стыдно даже стоять у доски и отвечать – я двух слов связать не мог – и, конечно, здорово отличался от других учеников. И мы всегда отдельно держались от остальных. А я так там плохо учился, особенно по литературе и русскому языку, что мне даже стыдно было приходить на урок. В конце концов я решил просто учить все наизусть. Вот зададут по литературе прочитать что-нибудь к уроку, чтобы пересказать потом, так я все это наизусть заучивал. Но все время получалось так, что я выучу наизусть, а меня не спросят, снова выучу – и опять не спросят. Я приходил раньше в школу. А там была эта нянечка, которая у нас одежду принимала… Я ей и пожаловался, а она, видимо, все учительнице и рассказала. В общем начали спрашивать меня. Дело дошло до того, что я «Слово о полку Игореве» наизусть выучил… Какой-то человек из нашего класса и сказала учительнице, что кто-то выучил все наизусть, учительница сразу: «Кто выучил наизусть?» – «Я!», – говорю. Ну, на меня и перестали как на отстающего смотреть. А Мишка «Евгения Онегина» наизусть выучил наполовину… Вообще он в физике хорошо очень разбирался, в восьмом классе уже собирал радиоаппараты, правда, не очень хорошие, но сам Мишка был уже на виду. И это ему потом очень помогло, потому что на фронте он сразу попал в какую-то дивизию, где радиоделами и занимался. И он выжил. А если бы в пехоту пошел, так его сразу бы убили…
В этой же школе был кружок самодеятельности… Преподавал там заслуженный артист МХАТа – солидный человек. Несколько раз мы по его рекомендации во МХАТ ходили, а в школе постановки делали. В «Борисе Годунове» есть сцена в Карчме с Гришкой Отрепьевым, так я там одного дьячка играл, который, правда, молчал постоянно – я там и сказал-то всего несколько слов. Еще играл Добчинского в «Ревизоре», а в «Женитьбе» Гоголя – Павла Ивановича Яичницу. Мама мне тогда «живот» привязывала. Смеялись, конечно, надо мной: лицо-то молодое было, а живот большой… Ну не признавали во мне Яичницу.
Учителя в той школе действительно хорошие были. За полтора года, что там проучился, я возвысился намного над другими ребятами – про себя так почувствовал. И мама с папой говорили, что я совсем переменился. И с девушками стал вежливо так разговаривать, обороты речи совсем другие использовать… Все время «спасибо» да «пожалуйста»… И девушки стали на меня внимание обращать. Мы тогда жили по адресу 2-ой Шибаевский переулок, дом №6… А в соседнем доме №4 одни хулиганы жили: одни в тюрьме сидели, другие готовились в тюрьму, а третьи вышли недавно… Даже те стали меня уважать, потому что я имел уже образование девять классов, а тогда это редкостью было. А вот что бы было, если я с первого класса в той школе учился?.. Как же было бы здорово.
Вообще учился я там средне. По русскому у меня всегда были «тройки» или «двойки», но я хорошо учился по геометрии – был в классе признанным лидером. По физкультуре я всегда хорошо занимался – учитель там был каким-то знаменитым человеком. По географии хорошо учился, а еще по немецкому, и это мне в дальнейшем очень здорово помогло… Еще когда мы учились в школе, чувствовалось, что нас готовят к войне. И я к войне в итоге был подготовлен. Стрелять я, правда, не мог из-за зрения, но мог гранату метнуть, с винтовкой обращаться, со штыком… Мы же тогда все эти нормативы на значки сдавали. А прямо перед войной появился такой очень почетный значок – «Ворошиловский стрелок». Как-то Ворошилов, нарком обороны, и Горький, писатель, зашли в тир, начали стрелять. Ворошилов все время в десятку попадал. Потом и придумали этот значок – мол, как Ворошилов стрелял, к этому все и должны стремиться. Все и старались сдать нормативы на этот значок – ребятишки прям с ума сходили. Ну я такой значок не получил, зато получил значок ГСО – «Готов к санитарной обороне». Все это тоже пригодилось – и сам я ранен был, других раненых перевязывал.
Жили мы не бедно, но и не богато. Бедность или богатство тогда определялось тем, кто что кушает. Если человек ест белый хлеб и колбасу – значит, он богатый, ребята из богатых семей в школу приносили бутерброды… Кто победнее – приносили просто хлеб с маслом. Я ничего не приносил, мне мама давала полтинник, и мы в школе обедали. У нас в школе продавали пирожное с молоком. Дело в том, что по вечерам в театрах были спектакли – В Большом театре, в Оперном, и театральные буфеты, естественно, запасались сладостями. Бывало, в театре пирожное не съедят, так его скорее в школу на утро перевозят, чтобы срок хранения не успел истечь. Вот мы вечернее пирожное и ели с утра со стаканом молока, и стоило это невероятно дешево – 5-10 копеек. Мы и пользовались этим. А иной раз, когда сэкономили, то пиво пили…
Как я узнал о начале войны…
Дома ели мы в основном картошку жареную, рыбу, чаще всего – треску, селедку; колбасу и мясо ели очень редко. Картошку жарить – уметь надо было: чтобы масла поменьше расходовать, водой разбавляли. Разогревали на примусах, на керосинках. Как старший, по магазинам я всегда ходил. Мама сначала работала уборщицей в столовой, а потом были какие-то курсы, где она выучилась на повара. Правда, в столовой ей разрешили только первое готовить. Часто мы туда приходили обедать: щи – сколько хочешь, хлеба – сколько хочешь, а второго нам не давали. В выходные дни папа дома отдыхал, а мама работала, так она брала с собой белый трехлитровый бидон, я приходил к двери запасного входа в столовую, и мама мне бидон с едой передавала, чтоб я его домой нес. Дома мы суп тогда и ели. А на дне бидона всегда были кусочки мяса: маленькие – нам, большие – папе. Но папа почему-то не ел мясо, а всегда делил его между нами.
А за продуктами в магазин всегда я ходил: сливочное масло мы часто покупали, по выходным и праздникам брали колбасу. Самая дешевая была ливерная колбаса – вкусная-вкусная, из нее мама пирожки делала. Очень вкусные. Ливерная колбаса стоила 4 рубля, чайная – 6 рублей, хорошая колбаса – 8 рублей, ну и самая лучшая, толстая такая, стоила 12 рублей. Мы обычно покупали колбасу за 6 рублей, редко – за 8 рублей, ну и на пирожки покупали ливерную колбасу. Хлеб мы ели не белый и не черный, а серый – это значит, что мы и не богатые были, и не бедные.
Когда по радио сообщили, что началась война, я был в магазине и что-то покупал. Это было во время обеда. Очереди в магазине никакой не было, я масла купил 200 грамм (тогда масла не покупали много, потому что не было холодильников; брали столько, чтобы сразу и съесть), хлеб… И что-то мне в тот момент показалось странным, как будто все как-то не по-человечески в магазине, жужжит что-то. Я не понимал, в чем дело, но на душе нехорошо было. Вокруг все то шушукались, то бежали куда-то… Почувствовал я что-то неладное. Ну я купил все и пошел домой.
Пришел домой, а там мама нервничает, говорит: «Давай скорей иди в магазин. На тебе денег, покупай скорее соли, спичек, масла подсолнечного, муку, крупу, мыло…». Спички, соль – для меня это было странно. Зачем же так срочно это покупать? А мама моя и бабушка уже знали все эти правила – они еще гражданскую войну прошли… Прибежал я в магазин, а там уже прямо муравейник, народу не очень много, но все покупают нарасхват. А я парень тогда был ушлый, ну и тоже принялся все скупать. Принес все домой, а мне еще деньги дали, и я снова в магазин побежал. Брату моему тоже дали задание, и он побежал куда-то. Всего надо было набирать быстрее-быстрее, раз уж война началась… А потом уже карточки ввели.
У меня тогда был белый билет по зрению, т.е. к армии я был непригоден. А такой в то время начался ажиотаж: музыка везде играла, агитации шли, солдат собирали, все уходили на фронт. Собрались мужчины-фронтовики, которые в первую очередь должны были уходить; в наше время каждый будущий солдат знал, когда и в какое время ему нужно явиться на случай войны. Вот правительство объявляет день войны, и с этого времени начинается другая жизнь: заводы переходят на другой график работы – на 12-14-часовой рабочий день без выходных. Все наши мужики собрались и посередине игровой площадки вырыли здоровую глубокую траншею метров на сто, а сверху – бревна, чтобы там прямо с головой можно было укрыться, когда воздушная тревога будет. Молодцы они, а траншея эта все-таки пригодилась, потому что однажды бомба упала буквально метрах в пятидесяти от этого места.
В школу мы сначала ходили – наверно, месяц еще проходили в 10-ом классе… Мишка, товарищ мой, вообще очки не снимал, даже спал он в очках. И все время как он очки потеряет – так беда у него. Жили они плохо, у Мишки была сестра и мать – больная-больная, у нее желудок болел, и ей операции делали; а отец их бросил.
Они еще хуже жили, чем мы. А мы в общем-то считались небедными. Мне тогда был 19-ый год. А почему 19-ый? Когда мы из деревни приехали, я там в третьем классе был. Я тогда почти ничего не знал, а в школе-то московское все-таки образование, так меня и там в третий класс отправили. А второй раз – я заболел дифтеритом, и меня поместили в больницу. Ну и там что-то у меня ненормально получилось, что пропустил я много и меня решили оставить на второй год. Это было в четвертом или пятом классе.
Ну а мы ж должны воевать! Мы с Мишкой ходили в военкомат, но только все не до нас было… Народу много, где-то раздают оружие, там офицеры, там настоящие военные, которые уже отвоевали, прошли подготовку. Нам все и говорят, мол, идите, с вами разберутся… А куда нам идти-то?.. Нам сказали: «Идите к своим домоуправляющим, там вас определят». Все молодые ушли, наша пожарная охрана ушла (у нас была самая настоящая пожарная охрана), и остался за начальника охраны старый Моисеевич – у него уже усы, все прокуренные, спадали… И меня тогда сделали заместителем начальника пожарной охраны. Я был тогда гордый! В мою задачу входило следить, чтобы брансбойты были все готовы, чтобы вода шла нормально, а еще я должен был всех граждан направлять в убежище при воздушной тревоге. Кто хотел идти, кто не хотел, а я всех подгонять должен был. А между тем с 23 июля начали уже регулярно бомбить, а нас разбомбили в ночь со 2 на 3 августа…
В Москве появилось много диверсантов… Что они делали? Немецкие летчики летают и не знают, где на самом деле важные объекты, потому что Кремль и другие важные объекты раскрасили так, что прямо не узнать, Красную площадь красками разукрасили, колонны Большого театра раскрасили… Так Москву разукрашивали, чтобы немецкие летчики не знали, куда бросать бомбы. Немецкие диверсанты должны были с помощью сигнальных ракет указывать важные объекты. И все-таки одна бомба в Кремль попала…
В ночь со 2 на 3 августа я был на дежурстве. Объявили воздушную тревогу. Всех людей срочно с трудом собрали в убежище. Некоторые женщины не пошли и в окошко смотрели… И смотреть-то действительно интересно было. В небе десятки прожекторов – ловят немецкие самолеты, а как поймают одного, так все разом в него и упрутся, ведут его, а в это время пушки в него стреляют. И самолетов-то много, так что они прямо везде, и при луне даже видно было, как самолет летит высоко-высоко. И вот уже бомбят кругом, все горит… страшные вещи передаются… В ту ночь со 2 на 3 августа я сидел около барака, воду я уже проверил, все готово было.
Там еще помощники были – ребятишки маленькие, которым нравилось это дело – пожарниками быть. Я сижу и вдруг слышу звук подающей бомбы… А рядом со мной окошко было большое – там общежитие – и женщины все смотрят, смотрят… Я им кричу: «Идите в убежище скорее!», а они смеются, мол, нет, не пойдем… Уже месяц почти прошел, а нас еще не бомбили. А у нас объект государственной важности – Каучук, значит в нас обязательно хотят попасть. Таких заводов-то всего три в Советском Союзе и было. Резины не было, и автомобили нечем было обувать. И тут я слышу это завывание бомбы… Все это за секунды происходило, но в моем сознании растянулось на часы. Что делать? Она летит, сейчас на землю падать надо, но мне же стыдно, да и девчонки смотрят… Вдруг бомба не сюда попадет, а потом скажут, мол, все стояли, а Кулаков, начальник, первый на землю и упал. Я начальник, значит я все должен выдержать. Бомба летит, я встал, смотрю, а она все летит… Я стою, а она все летит-летит, и звук уже незнакомый, но очень страшный. И вот все нижу, ниже, ниже, а потом как хряпнет! Сразу яркий свет! Я быстро и лег тогда. И тишина была целые полминуты. А потом все как заорут! Девчата, которые смотрели в окно, кричат, окна уже выбиты все, по лицам кровь течет… Я тоже испугался – что делать?.. Там у нас, конечно, и санитарки были, и аптечки… А все кругом плачут, и барак там раскололся. Все орут. И все вылезают посмотреть, какой барак разгромило. Многие тогда не боялись и принципиально в убежище не ходили. Ну а тогда все стали вылезать, кричать, а бомбежка-то не кончилась еще. Я смотрю, там где-то ракеты полетели – показывают, где завод Каучук. А я-то догадываюсь, что это диверсанты, кричу: «Диверсанты!». Ребятишки туда через забор перелезают, побежали, а там уже кругом все светло, все горит… Это мебельная фабрика горела в километре от нас. Там красители были всякие, бензин, лаки, краски, дерево сушеное – все и вспыхнуло, как факел. Не знаю, из-за чего там загорелось все, но есть у меня предположение, что из-за диверсантов. Эта фабрика как раз была на берегу Москвы-реки. Ребята посмотрели, что туда уже военные побежали, ну и вернулись обратно. Я начал всех в убежище заталкивать, но никто не хочет туда, всем интересно узнать, куда бомба попала, не в их ли барак?.. Я побежал туда, где бомба разорвалась… Забор уже опрокинут… А там был маленький домик, в нем парень жил, который ухаживал за Шуркой Фроловой, которая вместе со мной училась в школе. В этот дом бомба и упала – и дома нет, осталась одна воронка. Говорят, бомба в 250 кг была.
Наши бараки деревянные были. Выглядели как длинный одноэтажный дом, в длину – метров 50. По середине длинный коридор, по сторонам которого находились двери жилых комнат. Отец наш был старшим кассиром и имел кое-какое преимущество, так что наш барак очень цивильным был, и рабочих там жило мало. Рядом через дорогу был военкомат – там мама несколько месяцев работала уборщицей.
Словом, бараки деревянные, значит их поджечь могут те же диверсанты – только чиркни спичкой, и все сразу вспыхнет. Вот и решили их все снести: подогнали тракторы, сняли все и всех перевезли в другое место.
Как зам. начальника я чувствовал ответственность. Мой начальник Моисеевич уже еле ходил, только трубку курил и усы поглаживал, ко мне обращался: «Вот там посмотри, сынок… Вот туда сходи…». Все сынок да сынок! А однажды был случай – кто-то услышал морзянку… За забором у нас были пятиэтажные красные дома, а за ними сарайки деревянные, потому что все подвалы были перестроены под бомбоубежища. Кто-то из ребятишек услышал там морзянку как по телеграфу. Мне и говорят, мол, там как будто стучит Морзянка. Я об этом Моисеевичу рассказал. И действительно в том дворе тогда нашли шпиона, который и передавал морзянку. Все, конечно, были в шоке: как так у нас и шпион?.. Раньше мы об этом в кино смотрели, или слышали, или читали, а тут прямо под нашим носом такое. Говорят, что шпиона этого тогда поймали, но на самом деле все хранилось в тайне. Это сейчас обо всем газеты пишут, а тогда-то цензура была, мол, этого нельзя говорить, ну и все молчали.
Нас перевезли на Крымскую площадь, на ул. Чудовка. Чудовкой называлась она потому, что там был Чудов монастырь, церковь была. Там же был хамовнический пласт, где военные рубили лозу на конях, Ворошилов, Буденный тоже ездили туда… Там еще старинные строения были, казармы, недалеко от нас было здание генерального штаба, и там в казармах охрана находилась. Поэтому там у нас вроде порядок был. Нас перевезли в квартиру недостроенного дома. Мама моя в это время работала на 214-ом военном заводе – это секретный авиационный завод. Она там в цехе работала на раздаче инструментов – это была очень престижная должность. А меня тогда никуда работать не брали, и мама устроила меня на хорошую должность – ученика шлифовальщика. Я там плохо работал. И тогда я узнал, что есть такие истребительные отряды, которые ловят диверсантов, и там никто не спрашивает, какое у тебя зрение; и собираются они в саду Мандельштама – там у них был так называемый штаб. Я туда пришел (тогда я был уже обстрелянный и бомбы видел) и меня приняли, только, говорят, мол, оружия у нас нет. Я решил, что просто так без оружия буду помогать товарищам. Неделю я там пробыл, два раза мы бегали за диверсантами. Первый раз мы побежали по тревоге: в Парк культуры и отдыха им. Горького около железнодорожного моста якобы высадились парашютисты-диверсанты. Наши, конечно, с оружием… ну а какое там оружие-то было? Тозы у всех – это мелкокалиберные винтовки; а я так и вообще без всего. Бегали-бегали, а я с одним парнем бегал, чтобы если его убьют, я бы его винтовку взял и дальше бежал… Никого не поймали. Второй раз по тревоге к набережной Крымского моста влево по противоположную сторону от Парка культуры и отдыха, там были какие-то постройки ветхие, но и там никого не поймали.
Потом была тренировка по стрельбе: всех нас построили как надо, мишени поставили, только они близко друг к другу стояли, потому что места мало было. Начали стрелять. И я в свою очередь отстрелялся. Все попадали хорошо, а когда мою мишень посмотрели, то там вообще ни одного попадания не оказалось – все промахи. А вот на мишени моего товарища справа одно лишнее попадание нашли! Выходит, я один раз даже по его мишени попал… Тогда мне вежливо так и сказали, мол, ты лучше не занимай это место, пусть другие стреляют – они умеют. А куда мне было деваться?.. Мама-то меня на работу устроила, но я оттуда ушел – не нравилось мне, к тому же я еще и браку там напорол, так что мастер был недоволен. Да и мне не нравилась эта работа.
Ну не мог же я без дела сидеть в 19 лет! Я опять пошел к домоуправлению. А рядом у нас метро было – буквально в ста метрах – станция «Парк культуры им. Горького». И в домоуправлении мне сказали, что вот люди идут по этой улицы, старики, дети, они несут с собой одеяла, подушки. В это время в метро закрывается движение и все идут туда ночевать – между рельсами устраивают лежаки, и таких лежаков – на полкилометра. И когда эти люди приходят туда, расходятся берут одеяла, подушки… А в подушку люди складывают все свои ценные вещи, деньги, золото, если у кого-нибудь есть, и с этой подушкой идут спать – так ценные вещи сохраняли. А пока они идут по улице, зенитки-то стреляют, осколков видимо-невидимо, и падают они с ужасной скоростью, особенно большие. А некоторые поднимешь, так они еще горячие, лучше и не трогать. И естественно когда старики и дети по улице идут, их задевает этими осколками… А еще там хулиганы, бандиты были – подбегут, вырвут подушку, и все. И тогда организовалась специальная служба. Набрали людей таких, вроде меня, еще отставников, которые уже с костылями, с палками, или молодежь, которую не берут в армию… Я стариков по своей улице к метро и провожал, помогал… Некоторые, видимо, столько барахла с собой несли, что и дотащить не могли, а еще бомбы летают вокруг, словом, они уже совсем выдыхались… Помогал им, вещи их нес. А в метро всех уже другие дежурные женщины встречали, распределяли людей: кого на платформе оставят, а тех, кто покрепче, в туннель отошлют. Вот так я и работал…
Дома у нас бабушка жила, старенькая. И вот как началась война, когда начались бомбежки, мама бабушке говорит: «Что ты, старенькая, будешь здесь делать? Поезжай-ка в деревню к своим сестрам. Немец-то туда не дойдет, и ты там поживи». Дома-то у нас почти ничего не было – все только по карточкам выдавалось, а кто не работал – у тех и карточек не было. Рабочим давали по 800 гр хлеба на день, служащим – 600 гр, а тем, кто не работал, и парням, которые в армию не ушли, словом, иждивенцам, давали по 400 гр хлеба по карточкам.
Карточки эти дороже денег были… Это листочки такие разлинованные, с печатями, а вверху квадратик, где написано сколько грамм хлеба по этой карточке выдается. Еще они разноцветные были: у рабочих – красные, у служащих – зеленые, а иждивенческие карточки – желтые… Если потеряешь эту карточку или у тебя ее кто-нибудь украдет, то взамен уже не выдавали ничего – так голодный и ходи.
Эти карточки еще тогда на рынке продавали… Продавец отрывал этот квадратик с карточки и наклеивал его себе в журнал какой-то. Например, он продал мне хлеб, взял у меня деньги, оторвал этот квадратик и наклеил его на полотнище (большие такие у продавцов были), и продавец отчитывался за хлеб этими талончиками. А они уже были без номера, т.е. ничьи. Получается, что если можно было карточку купить – продавец эти талону наклеивала сама и хлеб себе же брала. А на рынке буханка хлеба стоила очень дорого, а карточки там запросто продавались, хотя это и незаконно было – продавцов таких специально ловили. Но все равно карточки продавались и очень дорого стоили. Особенно дорогими считались хлебные карточки, а вот мясные вообще не ценились – по ним все равно мясо не продавали; были еще жировые карточки… Часто продавали крупу, муку, но такие карточки уже менее ценны были, потому что тоже часто не отоваривались. К каждому производству тогда был прикреплен свой магазин, и магазины эти считались большими, хорошими… Например, на нашем заводе Каучук был свой магазин, и карточки там выдавали на производстве, но покупать по ним можно было только в этом же магазине. Естественно, продавец там уже всех в лицо знал – люди в очереди за хлебом с самого утра стояли.

