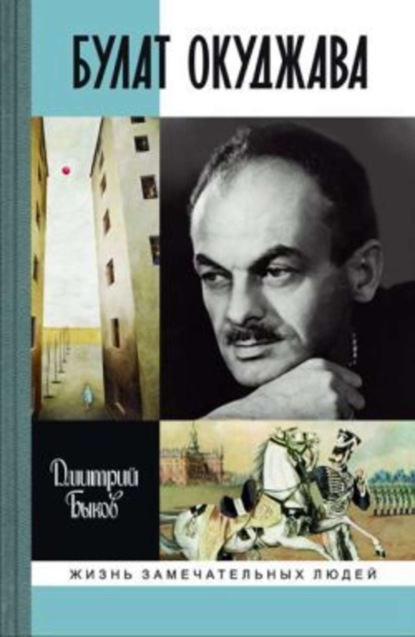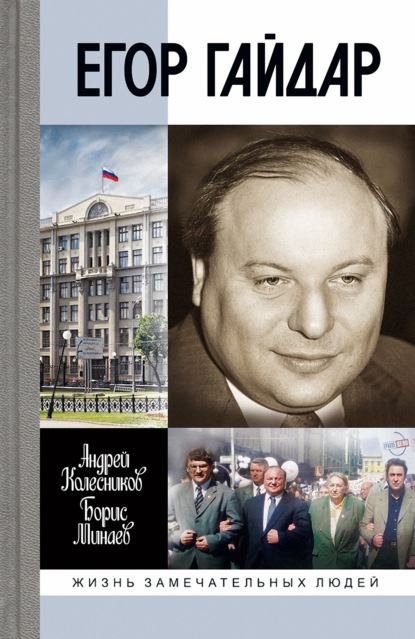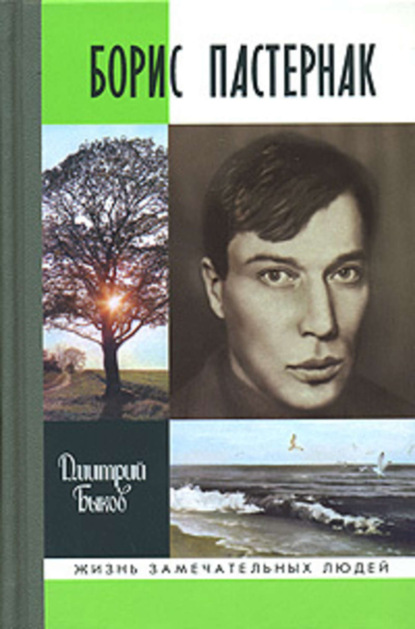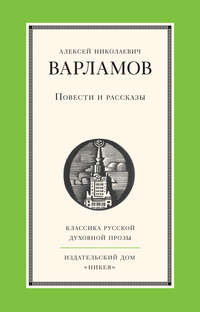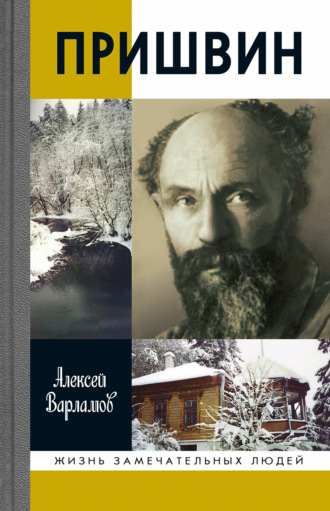
Полная версия
Пришвин
Глава IX. Конец света
И все же, если не литератором, то кем он был – Михаил Михайлович Пришвин, более известный как географ и, по собственному признанию, спасавшийся в этнографическом от психологического и субъективного?
В дневнике двадцатого года встречается такая запись: «Материалы к биографии: Четыре полосы: 1) бегство в Америку, 2) марксизм, 3) Париж, 4) литература.
Когда вдумаешься, почему я не стал, как Пржевальский, то помехой всюду является «она», т. е. трепетное стремление к женщине несуществующей. Это непростое отношение к действительности и заграждало путь к действительности (неврастения).
«Америка» и литература – сильный человек, открыватель новых стран. Париж и марксизм – жертвенность, женское начало, способность отдаться»[233].
«Она» – это пришвинская Прекрасная Дама, Марья Моревна, а затем и В. П. Измалкова, по которой он не переставал томиться, – по-видимому, самый тесный, интимный и верный момент сближения писателя с декадентством как мироощущением, когда реальной жизни предпочитается, навязывается мечта, которая служит мощнейшим творческим стимулом. С подобным мировоззрением писатель сведет счеты годы спустя в «Жень-шене» и «Фацелии»…
Но помимо Прекрасной Дамы было еще одно обстоятельство. Если от марксизма Пришвин вроде бы избавился, то со второй русской болезнью – притяжением Апокалипсиса – все обстояло гораздо сложнее. Об апокалиптических настроениях в русском обществе начала века написано много, и к герою нашего исследования все это имеет самое непосредственное отношение. Может быть, именно апокалиптичность сознания и сблизила его когда-то с декадентами, и оттого созвучны его настроению были идеи апокалиптического христианства, которое нередко считают русским религиозным возрождением и которое дало целую плеяду блестящих имен в философии и литературе.
Так, развивая мысли Вл. Соловьева с его идеей торжествующего христианства и объединения Церквей, позволяющей победить Страшного Зверя, сильно повлиявшей на символистов и предопределившей теургический характер их литературы, в одной из программных статей А. Белый писал:
«Русская поэзия, перебрасывая мост к религии, является соединительным звеном между трагическим миросозерцанием европейского человечества и последней церковью верующих, сплотившихся для борьбы со Зверем. Русская поэзия обоими своими руслами углубляется в мировую жизнь. Вопрос, ею поднятый, решается только преобразованием Земли и Неба в град Новый Иерусалим. Апокалипсис русской поэзии вызван приближением Конца Всемирной Истории»[234].
Пришвину все это было понятно и близко, не случайно он оставил об авторе «Петербурга» и «Серебряного голубя» (книге Пришвину чем-то очень созвучной, не зря же во сне являлась ему Ефросинья Павловна в образе хлыстовской богородицы) весьма примечательные строки: «Когда думаю о литературе, – что сделал для нее Андрей Белый, – то чувствую себя совершенно ничтожным: какой я литератор!»[235][236]
В русской культуре существовали два образа Апокалипсиса, и самое глубокое обоснование и характеристику русской апокалиптике в двух ее проявлениях дал еще один член Религиозно-философского общества, тогда еще не иерей С. Булгаков: «Душа русского православия, при наличии клерикального спиритуализма, на поверхности, преимущественно в иерархии, в глубине своей всегда была доступна апокалиптическому трепету и предчувствиям <…>
Русский апокалипсис имеет двоякий характер, соответственно двойственности и самих апокалиптических пророчеств, – мрачный и светлый. В первом случае воспринимается их трагическая сторона, причем апокалиптика принимает эсхатологическую окраску, с предвестиями скорого конца мира, иногда не без паники и духовного бегства от современности в эсхатологию. Особенно ярко эта эсхатологическая паника проявилась в русском расколе, который, хотя и отделился официально от Церкви, однако в своем духовном укладе сохранил дух православной церковности, хотя и с неизбежной односторонностью. Появление антихриста в лице императора Петра Великого, прекращение благодатного священства благодаря ереси, наконец, печать зверя, которая налагается на всех безбожным государством, таковы были свидетельства в глазах раскольников о конце мира, и это побуждало самых ревностных бежать в леса и там самосжигаться, огненное крещение предпочитая жизни под властью антихриста. Но наряду с этим возникла легенда о светлом граде Китеже, хотя и опустившемся на дно озера по смотрению Божию, но доступном очам достойным. <…> Наряду с этим народным эсхатологизмом в течение всего XIX века, как и в наши дни, в кругах высшей интеллигенции оживает иная апокалиптика, полная надежд и предчувствий новых, еще неизведанных возможностей в жизни Церкви. <…> Одна общая вера соединяет апокалиптически настроенные круги, – история не только не стоит уже перед раздирающим концом, но еще внутренно не окончена»[237].
Очевидно, что генетически Пришвин с его старообрядческими корнями и эсхатологическим испугом вышел из той традиции, которую его земляк и однокашник по елецкой гимназии связывал с народным эсхатологизмом, с темным его образом. Пережив это чувство в детстве, а затем – в марксизме и тюрьме, Пришвин двинулся в сторону той части интеллигенции, которая в конце цивилизации и истории видела не только гибель старого, но прежде всего нарождение нового, преображение мира. Иначе говоря, грядущий апокалипсис должен был принести не столько разрушение, сколько созидание. Эсхатология осмыслялась как бы со знаком плюс, а конец всемирной истории не означал для символистов катастрофу, экологическую, военную, национальную или какую бы то ни было еще (ни одна из ужасных химер двадцатого века перед ними не возникла) – это был апокалиптицизм предчувствия, где важнейшую роль играли интуиция, озарение и пророчество, и искусству отводилась роль новой жизнеутверждающей религии.
Именно это очень важное соображение позволяло А. Белому отмежеваться от декадентов (в его понимании) и сказать: «Нас называли «символистами второй волны»; для меня это название значило: «символисты», но не «декаденты». <…> Декаденты – те, кто себя ощущал над провалом культуры без возможности перепрыга»[238]. В этом качестве Белый был не одинок, но как теоретик искусства он наиболее четко сформулировал апокалиптическую религиозную устремленность нового искусства и его беспрецедентные теургические цели.
Для младосимволистов, последователей Вл. Соловьева «перепрыг» был возможен, ибо художник в их восприятии – творец мира, демиург, союзник Бога на земле, а искусство – религиозно, способно изменить мир и подчинить его себе и создать нового человека, и это светлое, мистическое отношение к миру, которое С. Булгаков позже назвал «положительным чувством истории», неожиданно оказалось для Пришвина чрезвычайно близким именно по контрасту с ужасом конца; положительного, утвердительного смысла и искал он всю свою жизнь.
Молодой петербургский писатель, путешественник и журналист, безусловно, внимательно читал одну из самых важных, ключевых книг начала века – сборник «Вехи», и мимо него не могли пройти слова С. Булгакова: «Известная неотмирность, эсхатологическая мечта о Граде Божием (в пришвинской терминологии Китеже. – А. В.), о грядущем царстве правды (под разными социалистическими псевдонимами) и затем стремление к спасению человечества – если не от греха, то от страданий – составляют, как известно, неизменные и отличительные особенности русской интеллигенции. <…> Сознательно или бессознательно, но интеллигенция живет в атмосфере ожидания социального чуда, всеобщего катаклизма, в эсхатологическом настроении»[239].
Сходные мысли были и у Н. Бердяева. Вот как много лет спустя, уже в эмиграции, он более трезво и адекватно описывал эту ситуацию: «Религиозные философы проникались апокалиптическими настроениями. Пророчества о близящемся конце мира, может быть, реально обозначали не приближение конца мира, а приближение конца старой, императорской России. Наш культурный ренессанс произошел в предреволюционную эпоху, в атмосфере надвигающейся войны и огромной революции. Ничего устойчивого не было. Исторические тела расплавились. Не только Россия, но весь мир переходил в жидкое состояние. Но апокалиптическое настроение, ожидание грядущих катастроф у русских всегда связано и с великой надеждой. Русский народ, подобно народу еврейскому, – народ мессианский. В лучшей части он ищет Царства Божьего, ищет правды и уповает, что не только день Божьего суда, но и день торжествующей Божьей правды наступит после катастроф, испытаний и страданий. Это есть своеобразный русский хилиазм»[240]. Подобное ощущение затрагивало и российскую интеллигенцию, и народные массы. Так, известный исследователь сектантства А. Пругавин писал в 10-х годах XX века: «И сейчас, как в былые далекие времена, вновь оживают эсхатологические чаяния, т. е. ожидания близкого конца мира, скорого второго пришествия Христа. И, пожалуйста, не думайте, что эти верования захватывают только какие-нибудь темные низы крестьянской массы. Совсем нет! И среди привилегированного общества, среди столичной интеллигенции вы можете встретить немало людей, взволнованных и встревоженных идеей скорого второго пришествия»[241].
Страстное, пылкое обращение интеллигенции к народу, ее болезненное самоощущение в отрыве от него вызвало поворот, пристальное и даже патологическое внимание к наиболее темным, иррациональным сторонам жизни, к сектантству, к расколу в его самых радикальных толках и согласиях, а следовательно, и к раскольничьей апокалиптике. И вот факты: с одной стороны, небывалый интерес интеллигенции к «низам»: уход Добролюбова[242]; с другой – приход Клюева, появление повести А. Белого «Серебряный голубь», свидетельствовавшей о том, как переосмыслялся духовный опыт так называемых «темных людей». Все это вполне укладывалось в сознании русского человека, подчиняя себе даже людей образованных.
Именно апокалиптичность сознания (и светлая, и темная) стала той самой обетованной почвой, где состоялась долгожданная и чаемая встреча интеллигенции и народа, схлестнулись два потока и преобразовались в один, но встреча оказалась губительна, ибо в действительности почва была заражена, и на мятущиеся, завороженные стихией души Апокалипсис воздействовал разрушающе.
Пришвин не мог быть в стороне от всех этих споров. Они волновали его душу, в мудреных разговорах с Мережковским о Третьем Завете он торопился наверстать упущенное, он знал об этих вещах не понаслышке – то был его глубоко выстраданный личный опыт.
«Это чувство конца (эсхатология) в одинаковой степени развито у простого народа и у нашей интеллигенции, и оно именно дает теперь силу большевикам, а не как просто марксистское рассуждение.
Все тончайшие изгибы этого чувства мне хорошо известны, и оно держалось во мне несколько лет, имея наиболее сильное напряжение в тюрьме и быстро ослабевая в бытность мою в Германии, потому что там мой марксизм я увидел в форме того мещанства, которое так ненавидел Ленин. Но вполне я освободился от большевизма, лишь когда заговорили с другого конца, и был пожаром переброшен на другой полюс и вплотную подошел к декадентству. (…)
Существуют целые тома писаний об этом предмете таких выдающихся людей, как Струве или Бердяев, но именно потому, что они люди исключительно образованные, вожди – и притом умственно загруженные люди, нельзя по ним судить о всем. Я же был настоящим прозелитом, рядовой овцой в этом стаде, и мои замечания должны объяснять психически широкие массы народа»[243].
Через апокалиптический запал Пришвин попал в тюрьму и едва не сошел с ума, чуть-чуть руки на себя не наложил и, исцеленный природой и Ефросиньей Павловной, трезво смотрел на вещи, будучи в этом совершенно одиноким. Русскую интеллигенцию тянуло к сектантам (там была свежая кровь), сектанты, много десятилетий угнетаемые правительством и господствующей Церковью, видели в интеллигенции защиту, – это был своеобразный социальный заказ времени («Вообще все бы с удовольствием повертелись, а потому заискивали у хлыстов»[244]), и Пришвин вызвался быть проводником в этот вертящийся мир, он был словно для этого рожден и, таким образом, сделал своеобразную карьеру в тогдашнем литературном мире и в журналистике, печатая статьи о сектантах в «Русских ведомостях», а позднее составив из этих материалов третью часть своей четвертой книги «Заворошка».
Пришвину все это было интересно и понятно; он имел определенный опыт общения с людьми этого склада и пользовался у них авторитетом, что было не так просто, и именно благодаря своей компетентности в сектантских делах писателю удалось идеально точно занять нишу в только кажущейся хаотичной литературной мозаике тех лет – на самом деле строгой и упорядоченной системе и даже иерархии, где у каждого, от мэтра В. Брюсова до олонецкого мужика Н. Клюева, были свое место и своя роль, а те, кто путался в словах, уходили и сами основывали секты.
Прийти, как Клюев, и читать нотации Блоку или уйти, как Добролюбов, и назидательно замолчать («Помолчим, братие!») Пришвин не мог или не хотел, но вот стать проводником, сталкером, перекинуть мостик от народа к интеллигенции и, как справедливо написал А. Эткинд, уделивший, правда, слишком много внимания сектантской теме в творчестве Пришвина, легко ходить туда и обратно – это у него получалось великолепно. Он возил Вяч. Иванова к хлыстовской богородице, а потом молодая красивая женщина со строгими чертами лица, с головы до ног укутанная в черную шаль, сидела на лекции поэта-эллиниста. Он звал с собою к хлыстам Блока, был своим человеком в секте «Начало века» и «не раз приводил на край ее чана людей из нашей творческой интеллигенции».
Дома у него собирались хлысты, и он готовил их к выступлению в Религиозно-философском собрании; ввел в него И. С. Проханова, сектанта-молоканина, теолога, издававшего в Петербурге журнал «Духовный христианин» (это как раз он, к неудовольствию Мережковского, собирался привнести «логику» в сектантский хаос); после Закона о свободе совести и вероисповедания подпольная, неортодоксальная Русь вылезла наружу, и до каких только фантастических вещей не договаривались ее вожди и рядовые адепты, и как часто вспоминались эти люди и эти споры потом, когда вспыхнул русский бунт, но тогда все казалось живым, новым, внушало надежду, радость, опьянение.
Пришвину в этом «пассионарном» мире, куда стремились проникнуть и «повертеться» русские интеллектуалы, доверяли, в нем было некое обаяние – он нашел себя – хотя больше в петербургских сектах, чем среди заволжских староверов.
«Во время одной из ночевок в лесу, у костра, заходит разговор на отвлеченные мистическо-философские темы, – вспоминал поход к Светлояру в обществе старика-раскольника К. Давыдов. – Наш начетчик, человек вообще малоразговорчивый, враждебно отмалчивался»[245]. Изумительно верная деталь отношения народа к интеллигенции, вряд ли признаваемая участниками Религиозно-философского общества. А вот петербургские сектанты – это другое. Им внимание писателей льстило, хотя, как заметил Пришвин в очерке «Круглый корабль», Легкобытов «не затем ходит в наше Общество, чтобы учиться, а хочет привлечь на свою сторону интеллигенцию».
И все же наивно было бы полагать, что роль спеца (спецчеловека) по сектам Пришвина вполне удовлетворила.
Да, он хорошо представлял себе мировоззрение вождей декадентов, о которых тот же Легкобытов отзывался так: «В них есть что-то большое, в них есть частица того, что и у меня, но только они с небом играют…»[246]; многих из этих «игроков» писатель искренне уважал, даже любил («Будучи целый год вдали от столицы, я спрашивал часто себя: что делает в это время Мережковский? На него у меня была в душе надежда, потому что его я люблю как человека и уважаю как большого писателя и даже учителя»[247]), считал эту страницу в истории русской культуры чрезвычайно важной и впоследствии пытался написать роман «Начало века», где Мережковский должен был быть выведен в образе Светлого иностранца, несущего своей незнакомой родине свет, – замысел, которому не суждено было воплотиться, – но все же с сектантством Пришвин себя не отождествлял, с самого начала заняв позицию наблюдателя, а вовсе не адепта или неофита. Он мог водить дружбу с сектантским вождем Легкобытовым, что замещало ему отсутствие дружбы с Розановым («Легкобытов есть верующий Розанов»[248]), защищать охтенскую богородицу Дарью Васильевну Смирнову, но, казалось, ничто не могло поколебать его психически здоровую натуру, и, ведя эту захватывающую игру, Пришвин, похоже, ничем не рисковал.
Ему не изменяла трезвость и зоркость мышления, он не попадал ни под чье влияние до самозабвения, как А. Белый – в плен к Штейнеру и теософам, не сталкивался с проблемой алкоголизма, как Блок, не был гомосексуалистом, как Клюев или Кузмин («все эти импотенты, педерасты, онанисты, мне враждебные люди, хотя были бы и гениальными: я не признаю. Моя жена с огромными бедрами, и мне было с ней отлично»[249][250]).
Он был психически здоровым человеком, и это свойство также выгодно отличало его от болезненной и изнеженной декадентской среды.
«У вас, – сказал Мережковский, – биографически: вы не проходили декадентства.
– А что это значит?
– Я – бог. Нужно пережить безумие. А вы здоровый…»[251] Здоровый-то здоровый, но все же странности в его характере были, фантастическое мешалось в голове с реальным, и в какой-то мере и он допускал для себя возможность примкнуть к сектантам:
– Бросьтесь в чан, и мы воскресим вас, – говорил Легкобытов.
– Вы близкий, – делала ему комплимент охтенская богородица.
В ответ на этот призыв, заглядывая в себя, он ощущал «волну большой любви, похожей на счастье», в которой тонут все его мучения, злость и пр. Это состояние очень близко к тому, чтобы забыть свое «я» и уйти в секту, волна для него, а следовательно, и секта – возможность выхода из одиночества, от которого Пришвин многие годы страдал, и то, что он называет волной, стихией, плазмой, было его путеводной звездой:
«Та же самая волна ведет и в тюрьму, и к ней, и в литературу, и в степь: расширение души после греха»[252].
Что было у него общего с хлыстами? Собственная судьба – вот что!
Трагическое разделение плоти и духа было ему хорошо знакомо, он через это прошел и в пору работы над автобиографическим романом написал: «Если бы не было Павловны, то Курымушка превратился бы или в хлыста, или в трагическое лицо "с неправильным умом"»[253]. Но тогда смотрел на эти вещи иначе: «Православие – покой и смирение, хлыстовство – движение, внутреннее строительство и гордость. Хлыстовство невидимо стоит за спиной православия, это его страшный двойник, это подземная река, уводящая лоно спокойных вод православия в темное будущее».
Поскольку мечтой о будущем он был болен всю жизнь, что, по-видимому, и оказалось через несколько лет главной точкой соприкосновения его с большевиками (с «идеальными» большевиками, как поправил бы сам Михаил Михайлович), то определенный риск оказаться в этой секте не просто любопытствующим, но ее верным адептом, для писателя существовал.
«Жизнь наша – чан кипящий, мы варимся в этом чану, у нас нет ничего своего отдельного, и знаем, у кого какая рубашка: нынче она у меня, завтра у соседа. Бросьтесь к нам в чан, умрите с нами, и мы вас воскресим. Вы воскреснете вождями народа», – говорил Павел Михайлович Легкобытов.
И все же Пришвин в 1910 году никуда не бросился и даже не колебался, он хладнокровно взял из этого чана то, что было ему нужно (хотя бы вот это: «Как это мудро у хлыстов: человек работает – Бог спит, человек спит – Бог работает. Да конечно же, Бог не умер, а спит»[254]), и отошел в сторону.
И для него сектантский мир был потрясением, как и для всей интеллигенции начала века, но, слава богу, он не встретился с этими людьми раньше, в пору брожения молодых соков и половой неудовлетворенности, когда его могли бы подвигнуть и на самое радикальное решение мучившей его проблемы, а был теперь вполне зрелым человеком, и игра с хлыстами и в хлыстов была для него, если так можно выразиться, управляемой ядерной реакцией.
Минуты колебания были ведомы и этому человеку.
– Пожалуй, лет через пять и я к вам перейду, – сказал однажды Пришвин Легкобытову.
«– Через пять! – удивился он, и я понял, что меня они уже считают своим»[255].
Однако история со «школой народных вождей» не повторилась. «В том-то и ужас хлыстовства, что у него разделение человеческого существа не скорбь, как у нас, а вполне сознательная мера. И никаких законов общественных, государственных и всяких других для нас, природных людей, из их учения вывести нельзя. Нашу жизнь они живут по нашим законам, свою духовную по своим особым законам духа». Но в пору работы над «Кащеевой цепью» писатель оставил в Дневнике такие неслучайные слова: «Я сам по природе своей близок к сектантству, но избежал его (убежал)»[256].
Тогда же, в Дневниках середины двадцатых годов, встретится и еще несколько важных записей, в которых Пришвин объясняет суть «декадентско-сектантского» периода в своем творчестве: «Идеи, мне кажется, как ложное солнце, немного сдвинуты в сторону от светящегося живого тела, и если метиться в тело, ставя прицел на идею, то снаряд пролетит мимо. Так, идея Прекрасной Дамы приводит Дон-Кихота даже не к Альдонсе, а к какой-то безобразной девке на осле (…) Светило Прекрасной Дамы уже погасло, и Дон-Кихот следовал только принципу Дамы, призрачному и несуществующему, как ложное солнце, как долетающая до нас форма давно погасшего тела.
Вот теперь я начинаю понимать, что так разделяло меня с романтиками, почему Блок, Пяст, Гиппиус, Карташов и другие казались мне людьми какой-то высшей породы, высшего постижения, высшей учености, чем я, и в то же время одной половинкой мне стыдно было за себя и другой половинкой за них: я и уважал их, и тяготился ими, и даже потихоньку смеялся над теми, кто из них был выше других.
Вот почему так. Они были литературно, бумажно романтиками: они, получив какой-нибудь слабый жизненный толчок, целиком ушли в словотворчество, прислонясь к тому светилу прошлого, от которого у нас теперь осталась только идея или долетающая до нас форма давно умершего светила. А я, переживая все то же не на словах, а в самой жизни – да, то же самое в жизни (…) не смея это извлекать из себя, потому что живому жалко с жизнью расстаться, я смотрел как на корректив декадентских богоискателей на жизнь простейших людей, сектантов и проверял их верования, влюбляясь в начале, в конце находил, что эти люди, тоже не овладев собственной жизнью, хватались за ложное солнце…»[257]
Путь этот был не короток и не прям. Давыдов приводит немало свидетельств влечения своего товарища по охоте и путешествиям к сказочному, фантастическому (так, он мечтал поехать в экспедицию в некие Тарбагатайские горы, чтобы искать там следы прекрасной царевны, похищенной у Ивана-царевича, и даже показывал биологу два перышка, которые бросала возлюбленному догадливая царевна и которые Пришвин якобы где-то нашел).
Быть может, именно этим объясняется его обращение к сказочным образам практически во всех поздних произведениях («Осударевой дороге», «Корабельной чаще», «Кладовой солнца»), но это скорее проблема творческого метода, а не индивидуальной психологии.
Для того чтобы быть декадентом, надо было полностью декадентству отдаться, для того чтобы сектантом – броситься в чан, никакая половинчатость здесь в расчет не шла и не принималась, броситься наполовину нельзя – а Пришвин осторожничал, потому и уцелел и сквозь все прошел. Проскочил – как отзывались в 1898 году елецкие соседи о студенте-неудачнике, вышедшем из тюрьмы. Точно так же «проскочил» он через все перипетии века, через декадентство и сектантство.
Но одну чрезвычайно важную идею от символистов и, говоря шире, от людей «начала века» Пришвин ухватил и воплотил гениально. Это была идея жизнетворчества, отношения к человеческой жизни как к произведению искусства – именно ее писатель и выстроил, переосмыслил, преобразил на свой лад («Я из себя живу, они – от судьбы»[258]). Он искал свой путь, хотел жить не чужим, но своим умом, и главный итог его исканий начала века был выражен им в самый первый год вступления в партию декадентов (хотя, используя термин чуть более поздних времен, он был скорее попутчиком, нежели действительным партийцем) – так что можно было дальнейший огород и не городить и никаких салонов не посещать, разве что из любопытства. Прирожденный охотник имел очень быстрый и цепкий ум и так же лихо, как с Олонецкой губернией на диво тамошним этнографам или с ветлужскими сектантами, к удивлению религиоведов, очень скоро разобрался и со своими духовными поисками и сомнениями едва ли афористическим образом: «По-мужицки верить нельзя… По Мережковскому тоже нельзя… По своему?.. Но я не религиозный человек. Мне хочется самому жить, творить не Бога, а свою собственную, нескладную жизнь… Это моя первая святая обязанность»[259].
И через несколько лет, в 1914 году, закрывая свое декадентство и объявляя его изжитым: «Моя натура, как я постиг это: не отрицать, а утверждать; чтобы утверждать без отрицания, нужно удалиться от людей установившихся, жизнь которых есть постоянное отрицание и утверждение: вот почему я с природой и с первобытными людьми»[260].