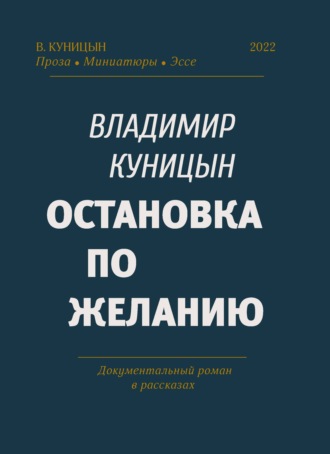
Полная версия
Остановка по желанию
Сегодня, видя сквозь время, как сидят на лавочке и увлечённо беседуют двадцатилетний студент третьего курса философского факультета МГУ и школьник-семиклассник – о Монтене и теории Платона об идеях и «тенях теней», мне кажется это причудливым. Но в реальности нам просто было интересно друг с другом. Младший Примаков превратился в мой «хвостик» Сам он сформулировал изящнее: «Я твой верный Санчо Панса! Ты не против, если я буду сопровождать тебя в твоих походах и подвигах?!» Но я был такому товарищу только рад.
Однако вскоре на «правдинском дворе» появились две новые сильные фигуры! Они приехали одной электричкой, но с разными целями. Молодой начинающий сценарист Саша Миндадзе сразу же попал под горячую опеку Лауры Васильевны, а вот второй «богатырь» как вихрем закружил меня. Звали его Андрей, он приехал в отпуск, отслужив год срочной, – к маме, сотруднице «Правды». Приехал на шесть драгоценных дней и не желал терять здесь впустую ни минуты! Для моего Санчо Пансы настали чёрные дни. Мало того, что мы с Андреем практически на весь его «армейский» загул изъяли чудо-магнитофон вместе с Битлами, главное – не могли мы таскать за собой школьника, потому что окунулись в настоящую пучину курортных безобразий!
…Запомнилось ещё, как ездили с Лаурой Васильевной на электричке в Ригу. Она заказала местному столяру-мебельщику «эксклюзивную» тумбочку по своему чертежу. Я с радостью исполнял роль носильщика, пытаясь хоть в этом быть ей полезным. Жена Примакова нравилась мне, она сразу же покоряла своей открытостью, искренней прямотой. При этом в ней бурлил грузинский темперамент, и её эмоциональность совершенно обезоруживала любого. Однажды к нам приехала из сибирского Киренска папина племянница Галя, моя двоюродная сестра. Высокая, голенастая девчонка лет семнадцати. Лаура в восхищении уставилась на её длиннющие, как у цапли, ноги и бросилась возить её по магазинам, одевать по моде!
А чего стоили её публичные восхваления в адрес Георгия Куницына? Не раз слышал у нас дома, как она тоже как-то по-грузински горячо восхищалась – при Примакове! – отвагой моего родителя, способного ради убеждений и правды на «безумные» поступки. И при этом, не стесняясь, упрекала при всех Евгения Максимовича в том, что он так поступать не умеет, слишком осторожный и расчётливый. Примаков в ответ всегда примиряюще смеялся, отшучивался, тоже говорил отцу комплименты. Его природное обаяние, мягкий юмор снимали любое напряжение. Да и видно было, что, несмотря на эти спонтанные Лаурины выпады, они оба любят друг друга.
И вспоминается, как одним августовским утром в «моё» окно тревожно застучали. Стучал Всеволод Овчинников, теперь знаменитый по книгам о Японии, прекрасный журналист и писатель. Он почти прокричал громким шёпотом: «Володя! У вас есть радиоприёмник? Мой не ловит. Кажется, война! Наши танки вошли в Прагу! Скорее просыпайтесь!»… Такое вот было лето 1968 года…
Спустя пару лет Лаура и Евгений Примаковы были на моей первой свадьбе. До сих пор храню их подарок – грузинскую чеканку и декоративную большую настенную тарелку. «Это авторская!» – предупредила Лаура.
А ещё через десять лет я стоял в Институте США и Канады – у гроба Саши Примакова. Он умер внезапно, как говорили, на Красной площади, во время демонстрации 1 мая 1981 года. От сердечного приступа. Гениальный, прекрасный юноша, человек такого обаяния, какое мне больше не повезло в жизни встретить ни разу. До сих пор скорблю по нему, ужасаясь горю, которое пережили Лаура и Евгений!
Отец всегда говорил о Примакове с огромной симпатией: «У Жени редчайший талант! Он умеет дружить! Женя способен очаровать любого человека! Любого! Он настоящий дипломат, тонкий, умный. С ним легко, тепло и приятно любому человеку. Это великий талант. У меня такого нет…»
Но добавлю от себя, поскольку отец не дожил до этого события 1999 года: Евгений Максимович Примаков, летевший тогда в Америку для переговоров в качестве премьер-министра, лично РАЗВЕРНУЛ свой самолёт над Атлантикой. Сразу, как стало известно о начале американских бомбардировок Югославии! Россия будет помнить это долго. С благодарностью и гордостью.
Веник тёти Дуси
Моя любимая тётушка Дуся, мамина старшая сестра, последние свои годы жила с нами. Когда по телевизору начинал говорить Брежнев, а это шли времена наиболее «развитого социализма», и он говорил уже с большим трудом, тётя Дуся хватала веник и, приговаривая: «Не ври, не ври, не ври!», – интерактивно хлестала бровастого генсека по голове, по звёздам на пиджаке. Через экран.
С военной юности тётя Дуся была в партии. Курила «Беломор», по темпераменту походила на Павку Корчагина, никогда не кривила душой, резала свою правду в лицо любому. За обезоруживающую искренность её любили, уважали и прощали многие. Особенно дети. Долгие годы тётя Дуся была директором детского дома в Арапово, под Тамбовом.
Неправда, конечно, что при советской власти народ сидел, запуганный КГБ, и молчал в тряпочку. Откровенного сарказма было хоть отбавляй! От политических анекдотов до повседневного, адресного матерка. Одно гениальное словечко «членовоз» чего стоит! Так народ обозвал чёрные большие автомобили, перевозившие членов высшего руководства СССР с дачи на работу и обратно.
Помню, в конце 70-х притормозил в холле Дома творчества «Переделкино», начинались по телевизору «Новости». Опять какой-то то ли съезд, то ли пленум партийный прошёл. В холле у ящика никого, зима, зябко, я один. На экране появляется Брежнев, за ним, как водится, бредёт гуськом всё Политбюро. Картина не просто унылая, а страшная – шествие полумертвецов. Я в сердцах громко восклицаю: «Нет конца вашему маразму!» И вдруг слышу за спиной: «Да, маразм крепчает». Оглядываюсь – упёршись руками в спинку кресла, стоит Василий Аксёнов. Мы солидарно усмехнулись друг другу и разошлись каждый в свою сторону…
Андрей Тарковский и кот Бася
Вспомнился забавный случай. Что-то похожее на этюд от великого режиссёра. Однажды к нам на Песчаную, в родительскую квартиру, приехал Андрей Арсеньевич Тарковский. Один. По его сосредоточенному лицу я решил, что на важный для него разговор. Отец мой был уже в опале, не при чинах, его не печатали, не издавали. Провалили на защите докторской диссертации в Институте мировой литературы, временно он был вообще без работы – так что не за помощью приехал Андрей, а за каким-то советом.
Я всегда радовался, когда видел Андрея. Он очень мне нравился – своей одухотворённой нервностью, живостью мимики, мужской красотой. Я считал, что он похож на русского офицера, дуэлянта! Впервые увидел его лет в шестнадцать. Конечно, даже не подозревал, что передо мной гениальный человек. Он просто сразу понравился. В отличие от других приятелей отца, пожалуй, тогда известных поболее Тарковского, Андрей совершенно не лицемерил, был абсолютно настоящим. Так я его ощущал – как мальчишка, мальчишеским чутьем. И с годами не изменил о нём мнения.
Этот его приезд в наш дом на Песчаной оказался последним. Андрей вскоре покинул Россию. Как оказалось – навсегда. Когда они вышли из кабинета, я был тут как тут и, улучив момент, спросил Тарковского, правда ли, что он собирается снимать «Мастера и Маргариту».
Андрей коротко взглянул на меня и задумался – руки нарисовали вокруг головы китайский иероглиф: правая щека припала к левой ладони, а затылок уткнулся в ладонь правой руки. Вся эта сложная конструкция была какой-то тревожно-зыбкой. «Видите ли, какая штука! – сказал Андрей. – Я представляю, как можно снять всё. Но я не знаю, не могу представить, как снять Бегемота!»
Пока он говорил всё это, мы шли по квартире и оказались в комнате с ковром на стене. И тут Андрей молниеносно подхватил с пола нашего кота Басю и одним непрерывным движением, как бросают лопатой снег, властно, по-режиссёрски непререкаемо – швырнул его на ковёр!
Здесь уже удивил кот. Он грациозно, иначе не скажешь, наподобие мотоциклиста в цирке, мелькнул дугой по отвесной стене и, мягко притормозив, с высокомерным шиком равнодушия ступил на пол.
Андрей повторил: «Не знаю, что делать с Бегемотом. Наряжать актера? Плохо!»
Так и остались вопросы. Отец не рассказал, зачем приезжал Андрей Арсеньевич. И фильм по Булгакову Тарковский так и не снял. Интересно, имея в руках нынешние компьютерные технологии, как бы он всё же решил проблему Бегемота?..
И ещё осталось изумление от поведения кота Баси. Это был свирепый камышовый сиамский голубоглазый гордец, никому не спускавший обид, унижений и просто недостаточной почтительности! Однажды брат Миша отшвырнул его ногой. И тут же горько пожалел о своём поступке. Кот вскочил на лапы, заскрежетал когтями по паркету от нетерпения, как гоночная машина жжёт шины на старте, включив максимальную скорость, и – бросился с разбегу обидчику прямо в пах, зловеще щёлкая зубами. Михаил успел отмахнуться, но не тут-то было! Кот разогнался опять и прыгнул теперь ещё выше, целя в грудь! Миша, вопя от мистического страха, бросился за дверь. Больше Басю не пытался унизить никто, даже в шутку.
Почему же кот так спокойно проглотил режиссёрский экспромт от Тарковского? Почему не вспылил?
Рука Карла Маркса
Вдоме родителей на Песчаной, прямо над нами жил бывший директор Института марксизма-ленинизма Г.Д. Обичкин. У руля он простоял девять лет – принял опасный штурвал за год до кончины Сталина, в 1952-м, а расцепил ухват на бурном подъёме хрущёвской оттепели – в 1961 году. Сия боевая идеологическая цитадель советского марксизма-ленинизма долгие годы находилась в самом центре столицы, за конной статуей основателя Москвы Юрия Долгорукого, и получалось, что великий князь с тыла был прикрыт «марксизмом», а прямо перед ним и его конём красовалось похожее на кумач здание Моссовета. В этом противоречивом идеологическом триптихе только ресторан «Арагви» по левую руку от основателя смягчал историческое напряжение.
Надо отметить, что здание института было сооружено в стиле модного в 20-х годах конструктивизма, а спроектировал его архитектор Сергей Егорович Чернышёв (ученик академика Императорской Академии художеств Л.Н. Бенуа). Между прочим, тот самый Чернышёв, который в 1949 году будет удостоен Сталинской премии 1-й степени за проект главного корпуса МГУ на Ленинских горах. Так горячо любимого мною и, не сомневаюсь, большинством «агрессивно-послушных» граждан СССР и просто России.
Какая прихотливая всё же перекличка! Академик Бенуа – Институт марксизма-ленинизма – Юрий Долгорукий – Сталинская премия – «Арагви» – МГУ – Обичкин…
Иногда я сталкивался с Обичкиным в подъезде. Он, пенсионер со стажем, непременно был в тройке даже в жару, всегда при галстуке в горошек, точь-в-точь как на знаменитом портрете В.И. Ленина, висевшем во всех кабинетах Советского Союза. Обичкин и ростом был как Ленин, около метра пятидесяти, с ленинской же бородкой и усами. Только значительно старше Ленина, совсем седенький. Геннадию Дмитриевичу в те 70-е годы было под восемьдесят, но производил он живое впечатление – уютно опрятный, доброжелательный господин в маленьких чёрных ботиночках.
А внуки Обичкина истязали моего отца. Внуков было двое, оба страдали каким-то врождённым дефектом ног, потому носили жёсткую обувь на крепкой, как у чечёточников, подошве. И беспрерывно бегали по всем комнатам, рассыпая над нашими головами звонкую рок-н-ролльную дробь. А отец, когда работал за письменным столом, совершенно не выносил постороннего – даже малейшего – шума! «Беда» была ещё в том, что работал отец дома целыми днями, с перерывами разве что на лекции и еду. И – шахматы.
– Они бегают по моей голове! – воздев руки к потолку, бушевал папа, вырываясь, как лев, из кабинета. – Эти маленькие садисты не дают мне работать! Аня, – кричал он, – купи этим палачам тапочки!
Мама смеялась, чем заводила отца ещё пуще. Но в очередной раз напоминала, почему внуки Обичкина не снимают дома ботинок. Отец с усилием остывал и говорил: «Надо подарить Обичкину ковёр!» Мама опять смеялась, а отец закрывался в кабинете и затыкал бесполезными берушами уши. Хитрых затычек – всех видов – нанесли ему из аптеки мешок.
Между прочим, «мешающий шум» был настолько серьёзной проблемой, что отцу однажды удалось изменить маршруты захода самолётов на посадку во Внуково. Летом самолёты садились и взлетали с интервалом в несколько минут – почти над крышей дачи, сотрясая чудовищным рёвом округу. Приходилось даже кричать собеседнику в ухо, иначе он не слышал ни бельмеса. И отец убедил соответствующие власти отклонить траекторию от писательского посёлка. Ненадолго. Пока была ещё жива советская власть, считавшаяся с «капризами» фронтовиков, инвалидов войны и творческих работников.
Однажды Обичкины затопили нас ещё и водой. Отрядили оценить масштабы бедствия меня. Так впервые я оказался в квартире бывшего директора Института марксизма-ленинизма, историка Коммунистической партии Обичкина Г.Д. Хозяин встретил в отглаженной шёлковой пижаме, чем-то отдалённо напоминающей его знаменитую костюмную тройку. Может быть, по-ленински сунутыми в подмышки руками. Когда мы вместе обнаружили, что вода действительно переливается через ванну и вот-вот преодолеет барьер под дверью, он по-стариковски запаниковал. Паника его выражалась в учащённом топтании на месте, будто он хотел убежать от свалившихся неприятностей, но бежать было некуда. Я вызвал маму, и мы в пять минут устранили «потоп».
Повеселевший Обичкин меня не отпустил, провёл в кабинет, стал расспрашивать «о жизни молодёжи» в моём лице. На тумбочке у его кровати, как перед решающим сражением, столпилась батарея маленьких пузырьков и склянок, источавших сильный, какой-то совокупный аптечный дух. Тогда подумалось об увиденном количестве – «чересчур»! Теперь бы уже – нет.
Но главное впечатление пришло не сразу – я пробежался взглядом по огромной библиотеке Обичкина и испытал неосознанный дискомфорт. Что-то с ней было не так! Что же именно? Приглядевшись, я понял, в чём дело: все корешки библиотеки были однотонными, а окраса – строго тёмно-коричневого, тёмно-зелёного, бордового и красного. А ещё тёмно-синего. Таким колором в СССР издавали Ленина, Маркса-Энгельса, Сталина, Плеханова и вообще всю политическую литературу. Несколько тысяч книг, и поголовно – политические! С редкими «диссидентскими» вкраплениями художественной литературы в лице Максима Горького и Шолохова…
Меня это так обескуражило, что я с искренним сочувствием посмотрел на старого марксиста Обичкина. Он мой потеплевший взгляд истолковал по-своему и с внезапным возбуждением стал рассказывать, как ездил в Париж – выкупать для «своего» института неизвестные до сих пор письма Маркса. Оказалось, дорогими политическими раритетами умело торговали внуки автора «Капитала», и Обичкин вёл с ними длительную предварительную переписку, цель которой была в том, чтобы сбить цену. Геннадий Дмитриевич – с детскими слезами радости поведал, что ему удалось сэкономить государственные деньги советского народа, поскольку стоимость раритетов он – «удачненько понизил»!
Прощаясь в дверях, явно тронутый вежливым вниманием, Обичкин открыл и совсем уж «интимную» тайну: «А вы знаете, этой вот самой рукой я пожимал руку внука Карла Маркса!» Он вытянул старенькую детскую ладошку, чтобы я мог её повнимательнее рассмотреть в качестве наглядного доказательства, а поскольку рука продолжала висеть в воздухе, я догадался, что Обичкин не против, если я пожму её и тем самым приобщусь к Великому событию, случившемуся в Париже с ним самим!
Я осторожно пожал выставленную ладонь, и Обичкин придержал мою руку, словно передавая невидимую эстафету от руки внука самого Карла Маркса!
Выйдя за дверь, я спустился к подъездному окну и посмотрел на свою ладонь с невольным любопытством…
У моего отца в библиотеке было море художественной литературы, и многие из мировых классиков стояли со своими полными собраниями сочинений, плотно прижавшись друг к другу могучими бумажными плечами. Но был у папы и ещё один – особенный книжный шкафчик! Лет в пятнадцать мне посчастливилось обнаружить в нём существование второго, «тылового» ряда, где папа конспиративно хранил библиотечку «служебных» изданий. Как работник ЦК КПСС, папа получал их в начале 60-х в порядке рабочего ознакомления. Это были белые книженции в мягкой обложке, с тонкой бордовой окантовочкой. Они и познакомили меня нелегально с романом «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя, а затем с «Реализмом без берегов» ревизиониста, как тогда считали, Роже Гароди, сборником статей «путаника» Сартра, пьесами Камю, «Процессом» Кафки, его рассказами, включая «Превращение», да и вообще со всем, что папа прятал на этой полке от посторонних глаз! Не изданная в СССР литература, доступная лишь диссидентам и партаппаратчикам, братьям – так сказать – по конфликтующему разуму, неожиданно стала и моим достоянием. И, конечно, как-то повлияла на моё преждевременное мозговое развитие. Хотя это не факт, скорее робкое предположение…
Подумать только – огромная библиотека, тысячи книг, а – почитать нормальному человеку нечего!
Я понял, что Геннадий Дмитриевич умер, увидев однажды за лифтом аккуратно составленные в штабеля книги – рыжую стопку полного собрания сочинений Иосифа Сталина (на глаз – почти двадцать томов). Шоколадно-коричневые, одинаковые по толщине совместные тома Маркса и Энгельса, тёмно-синие стопки Ленина (на глаз – более сорока томов), тёмно-зелёное собрание сочинений Плеханова, самое скромное в количественном выражении…
Было ясно, что все эти монолитно-унылые стопки были подготовлены к эвакуации в ближайший мусорный бак – внуками учёного. К этой исторически осознанной процедуре они успели возмужать, стали крепкими молодыми людьми с сильными ногами. Благодаря жёстким ботиночкам, так мучившим моего отца, они всё же избавились от детского недомогания.
А через полгода, вынося в пакете мусор, я обнаружил и второй библиотечный транш – разрозненные тома политической литературы, красные, зелёные, жёлтые, серые… Это была почти, можно сказать, публичная, окончательная смерть библиотеки Обичкина. Вспомнилось, как он передавал мне ладошкой эстафету от Маркса.
Подумалось, что, наверное, передавал её и своим внукам – как что-то важное, дорогое. И странное дело, но именно в тот момент я и пожалел его по-настоящему, до сердечного спазма…
Эрнст Неизвестный
Всего однажды привелось мне видеть знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного, но зато в нашем доме.
Поскольку матушки в тот момент не было, отец с гостем прямиком отправились на кухню, и вскоре послышалось оттуда звяканье бутылок, а затем и рюмок.
Неизвестный – когда вошёл в прихожую – скользнул по мне безумными глазами, мельком, как по случайному предмету.
Особенность взгляда состояла в бытовой незрячести! Похоже на того же Пикассо. Если присмотреться к глазам Пабло на фотоснимках – в них заметна опрокинутая перспектива бесконечности, из которой он, Пикассо, смотрит в этот мир, будто соображая, как он может сюда протиснуться, среди сходящихся плоскостей.
Через некоторое время из кухни стали доноситься по-мужски возбуждённые голоса. Я прислушался. Эрнст называл имена великих писателей – Державин, Карамзин, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Достоевский… А затем – татары, эфиоп, шотландец, шляхтичи! Я понял суть дискуссии. Тогда, в начале 70-х, среди особой части советской интеллигенции стало модным мнение, что всю «большую» русскую литературу создали не русские. Если судить по крови.
Отец на дух не принимал эту «подлую расистскую галиматью», и потому градус кипения на кухне стремительно повышался.
Затем я услышал, как отец, видимо, совсем потеряв терпение, громогласно объявил на всю квартиру и прилегающие территории: «Я тебя в окно сейчас выброшу!»
Наступила мёртвая тишина. И в этой тишине голос скульптора Эрнста Неизвестного зло, но всё же компромиссно предложил: «Давай на руках!»
Я быстро представил покатые его, почти борцовские плечи, вообразил, сколько он намахался за жизнь молотком и зубилом со своими камнями и мраморными глыбами, однажды слышал даже, что, будучи на войне десантником, в одной из рукопашных схваток Неизвестный убил 16 фашистов, сам не помня как, за что получил боевую награду. И всё равно не мог я допустить одного – его торжества. До сих пор отец не знал поражений в борьбе на руках! Я верил, не узнает и теперь.
Они затихли, послышалась короткая возня, громкие выдохи, и азартный, раздражённый выкрик Эрнста: «Давай левой!»
Это был конец дискуссии! Если отца не перебарывали правой – а она после ранения разрывной пулей на Дуклинском перевале в 1944-м срослась на сухожилиях и малой косточке, то о здоровой левой и заикаться было нечего. Так через минуту и случилось.
Ушёл Неизвестный из нашего дома слегка взбешённым. Уходя, он уже и не взглянул на меня, и совсем не среагировал на моё вежливое: «До свидания, Эрнст Иосифович!»
Папа же благодушно отправился проводить гостя и заодно развеяться. А может, поиграть в шахматы в Берёзовой роще у Ходынского поля, с отдыхающими от суеты местными гроссмейстерами.
Прозрачные крылья драматурга Зорина
Памяти Л.Г. Зорина
В первый же день, когда отец привёл драматурга Зорина в гости, кажется, году в 1964-м, Леонид Генрихович, переступив порог, с явным удовольствием расцеловал во все щёки маму, потом смачно впился в мою щёку, затем приступил к младшим братьям Михаилу и Ивану. Недолго передохнул, пока не стали появляться другие гости, и переключился с поцелуями на них.
Я, честно сказать, как-то до этого не имел счастья получать столь щедрые «приветы» от чужих дядек. Отец мой ласковостью не отличался, и потому, с любопытством наблюдая, как Леонид Генрихович обцеловывает всю компанию прибывающих гостей, я в некотором замешательстве тёр ублажённую им щёку.
Когда гости ушли, я спросил отца, что за человек у нас был, который так любит целоваться? Мне он показался похожим на лесного жука – из-за растопыренных в разные стороны бровей.
Папа добродушно рассмеялся и сказал, что это талантливейший театральный драматург, бывший вундеркинд – в девять лет он встречался с самим Максимом Горьким, читал ему стихи своего сочинения, и пролетарский «отец социалистического реализма» был в сущем восхищении. А даже и в восторге от этого «советского мальчика» из города Баку! Не исключено, что Горький всплакнул от умиления, поскольку, в отличие от зрелого Зорина, любил не целоваться, а плакать.
Хочу отметить, что ни разу впоследствии ни я сам, ни другие люди, на которых обрушивались поцелуи Леонида Генриховича, не смогли от них увернуться. Может быть, потому, что он приступал ко всем с такой щедрой ласковостью, с такой искренней радостью от того, что видит вас, приговаривая при том: «Здравствуй, мой дорогой (дорогая)!», что было бы даже подло не подставить ему щёку! И все до одного люди превращались в параллелепипеды рафинада, мгновенно тающие в кипятке любви Леонида Генриховича.
Допустимо предположить, на мой взгляд, даже вот какую дерзкую историческую гипотезу: будучи сверхчутким художником, Зорин, похоже, упреждал наступающий всплеск и расцвет «партийных поцелуев» – периода правления Леонида Ильича Брежнева, Генерального секретаря ЦК КПСС, как раз в 60-е годы коварно «подсидевшего» Никиту Хрущёва.
Как известно, Сталин, на смену которому пришёл Хрущёв, к партийным поцелуям между «мужиками» был равнодушен. Хрущёв, несмотря на то что в годы оттепели энергично ослабил государственную подпругу, целовался не то чтобы охотно.
Брежнев в этом вопросе предстал законченным постмодернистом! Он страстно целовался в самые что ни на есть губы не только со «своими» мужественными товарищами по коммунистической партии, но норовил внедрить этот свой постмодернистский финт и за рубежами СССР, в странах бывшего теперь соцлагеря, где ему, конечно же, отвечали взаимностью. И лишь в государствах «загнивающего капитализма» навстречу целовальным порывам Брежнева протягивали для сухих пожатий – руку. И можно предположить, что это его раздражало и даже волновало в политическом разрезе.
Почему же не допустить гипотетически, что ещё до восхода на партийный престол Брежнев где-то подсмотрел, как заразительно целуется драматург Леонид Зорин (например, в театре или на каком-либо приёме), и острым политическим чутьём оценил идейно обезоруживающую силу подобных живых поцелуев?
И рванул дальше! Во всём мире теперь не забудут его, Брежнева, смачный поцелуй в уста с генсеком Германии Хонеккером! Запечатлённый на поломанной Берлинской стене. Как символ миновавшей эпохи несбывшихся ожиданий и надежд.
Но поцелуи поцелуями, а через год я оказался вместе с родителями в Театре им. Вахтангова на премьере спектакля «Дион» (другое название – «Римская комедия»), по пьесе Леонида Зорина. Поставил её главный режиссёр театра Рубен Николаевич Симонов.
Незадолго до премьеры в Москве пьеса Зорина сама пережила драму – в Ленинграде. В легендарном БДТ, у Георгия Товстоногова она ставилась под названием «Римская комедия» и была запрещена партийным начальством, как только окончился публичный генеральный прогон.

