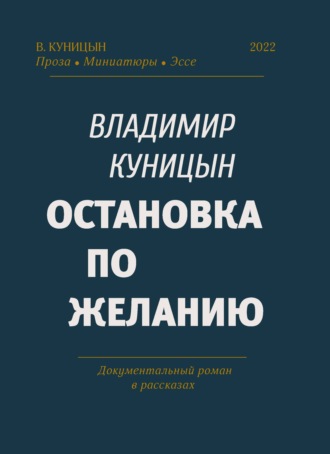
Полная версия
Остановка по желанию
Младший, Иван, добровольно ушёл со второго курса журфака МГУ в десантные войска, служил в лучшей разведроте СССР, под началом легендарного десантника-разведчика, боевого офицера Леонида Васильевича Хабарова. Как и Михаил, собрал все высшие знаки отличия для солдата-срочника. И позже добровольцем отслужил военным переводчиком в Анголе два года, ранен в бою, контужен, переболел африканской лихорадкой и там же подцепил гепатит, который позднее убьёт его в мирное время, в возрасте 59 лет, переродившись в неизлечимый недуг.
Остаётся сказать о матушке. В пять лет окажется в ссылке на Бодайбинских приисках, вместе с матерью, старшим братом и четырьмя сёстрами. Как дочь врага народа. Однако выживет, станет учительницей русского и литературы, встретит отца, родит ему трёх сыновей. Сдюжит с отцом все годы его политической опалы при Брежневе, поднимет нас, потом потеряет отца, младшего сына. И, перевалив за девяностолетний рубеж, будет без ошибок читать наизусть Лермонтова и Пушкина на наших с ней неторопливых дачных прогулках. Доблесть?
И всё же, когда сегодня смотрю я на своего седого брата Михаила, вспоминаю не о доблести его воинской. Я вспоминаю, как зимними вечерами забирал его из детского садика и вёз через тамбовские сугробы на санках, время от времени оглядываясь на краснощёкого пузана, беспокоясь – как он там, не замёрз? А он всякий раз отзывался в ответ приветливой улыбкой. Вспоминаю, как в трескучий мороз спровоцировал его лизнуть чугунную ограду нашего палисадника, и он, простодушный, лизнул. И как забудешь горячее своё раскаяние в тот момент, когда Мишу всем двором пытались отлепить от чугуна, но всё же кусочек его языка так и остался на ограде, когда Мишу «оторвали»? Не забыть такого. Не забыть.
Ведь простодушие и доверчивость сохранил он и в 90-е годы, вынужденно занимаясь бизнесом. А когда заработал деньги, практически всё раздал в долг бывшим друзьям. Как он мог подумать, что они ничего не вернут назад? Ну вот как? Ведь сам он всегда возвращал и даже представить не мог, как возможно нарушить слово, данное другу! Этому же учила с детства мама!
Боюсь, он один из нас троих твёрдо следовал маминым урокам. Да и сейчас такой же, хоть бит-перебит предательствами и вероломством.
Бог ты мой, что мы вспоминаем, прожив жизнь! Наш младший брат Ванечка, отчаянно махнувший через десантуру и войну, на полном серьёзе, с детской обидой припоминал ещё совсем недавно нам с Михаилом, как мы мучили его, зажимая пальцами кончик носа, и обвинял, что нос у него с малолетства приобрёл каплевидную форму!
А Миша до сих пор вспоминает, как в детстве, впервые оказавшись в Сочи, не доел шашлык – очень-очень вкусный, сочный, первый в жизни шашлык. Каждый раз, когда Миша начинает описывать этот свой недоеденный шашлык, его сочные, с хрустящей корочкой сиротливо оставшиеся три кусочка, дразняще пахнущие костерком, сахарно-белые олимпийские колечки репчатого лука, ломтики пурпурного помидора, с зеленоватыми в мякоти зёрнышками, и… невероятно вкусный томатный соус на ободке тарелки, – у всех начинают течь слюнки, и народ оглядывается на маму, с горячим сочувствием к Мишиной трагедии. Из-за отъезжающего автобуса мама подарила Мише трепетное воспоминание о первом шашлыке на всю жизнь!
Неужели доблесть моей собственной жизни только в том, что я почему-то помню об этих и прочих мгновениях и процарапываю их на бумаге? Что не могу забыть про то, как в сорок лет взял зачем-то «Маленького принца» Экзюпери перечитать в Гульрипши, на пустынном сером абхазском берегу, а дочитав, разрыдался и упал лицом в море? Про то, как вёз на санках добрейшего маленького толстяка? А он успевал улыбнуться, будто знал, что я сейчас оглянусь на него? Неужели это всё, вся моя доблесть и оправдание?
Эх, Мишка-Мишка! Где ж твоя улыбка, Мишка, ямочки на щеках, бедный мой дорогой брат?..
Два конфуза
Отец обожал шахматы. Много гроссмейстерских партий помнил наизусть, прочитал уйму литературы про великих шахматистов и рассказывал о них так, что это было интереснее любого детектива. У него был документ, официально подтверждающий, что он сделал ничью в сеансе одновременной игры с самим чемпионом мира Ботвинником! Это произошло в конце 50-х, когда отец учился в Москве, в аспирантуре. Ботвинник приехал в академию и сражался один против двадцати, прохаживаясь вдоль составленных столов и делая по очереди свои ходы. Отцу единственному удалось сделать с ним ничью. Все остальные уже сдали партии и сгрудили головы над доской, где перворазрядник Георгий Куницын упёрся и не отдавал победу. Болели, конечно, за «своего», против чемпиона.
Ничью потом праздновали, как общий триумф!
Но не меньше любил папа и побороться на руках. Теперь это называется армрестлинг. До почтенного возраста баловался этой сугубо мужской забавой, не зная поражений.
Однако случились и в шахматах, и в борьбе на руках два непредвиденных конфуза. Я был их свидетелем.
Сначала – совершенно невероятное поражение «на руках». Тогда мы уже переехали из Тамбова в Москву. После аспирантуры отца взяли на работу в ЦК КПСС. Взяли туда и несколько человек с их курса, в том числе ближайшего друга отца по академии Александра Михайлова (будущего литературоведа, проректора Литинститута, в перестройку – первого секретаря Московской писательской организации). Поселили их и ещё несколько человек в одном доме на Ленинском проспекте. Позади был фронт, послевоенная разруха. Мирная жизнь и карьера только разворачивались очевидной мощью и красотой, а потому собирались друг у друга часто и гуляли от вселенской широты послевоенного победного счастья!
И вот, помню, сцепились в первый раз на руках отец и ещё один цековский сосед, Юрий Фишевский, общий с Михайловым папин приятель. Совсем не богатырь мужичок. Даже очень с виду не силач – среднего росточка (против отцовских-то почти двух метров), мягенький такой, уютно кругленький, с добродушными ямочками на щеках… Отец р-раз его руку к столу, а она на какой-то фазе проигрывающей дуги вдруг встала и дальше ни-ни! Фишевский сидит, довольно посмеивается, и при этом видно, что и не напрягается совсем, в то время как отец аж побагровел от усилий и недоумения. Михайлов дядя Саша пришёл в восторг от фантастических способностей Фишевского! Конечно, он уже раньше-то познал силищу отца и потому, подначивая, болел за «реваншиста»: «Давай, Юра! Отомсти ему за наши унижения!» И отцу: «Гоша, как тебе не совестно? Ты посмотри на Юру, он же меньше тебя в два раза! Сдавайся, Георгий, надо уметь проигрывать достойно!»
И тут вполне довольный Фишевский примиряюще говорит: «Гоша, не трать силы, дальше у меня рука не сгибается! После перелома не так срослась!» Это сообщение всех развеселило очень. Но больше всех Михайлова и дядю Юру, конечно. Отец был таким азартным, что остывал не сразу…
Ну а второе конфузное поражение, но в шахматах, папа получил от Марка Семёновича Донского, знаменитого на весь мир кинорежиссёра. Итальянцы, между прочим, именно его называли отцом их неореализма. С почтением и восторгом поминая его фильмы «Радуга» и «Мои университеты» (по трилогии М. Горького) как предтечу «нового итальянского» киноязыка.
Донской был значительно старше отца, но их удивительно искренние и совершенно откровенные отношения, вскипевшие почти мгновенно на чисто человеческой, явно взаимной симпатии, – уравнивали возрастную разницу.
В шахматы Донской проигрывал отцу постоянно. И это его заводило к новым и новым попыткам взять реванш. Тут, как говорится, встретились два равновеликих азарта.
И вот однажды Донской подловил отца. Во время блицпартии с часами (пять минут на всю игру) – отца оторвал важный звонок. Часы остановили, выровняв никелированные кнопки-рычажки. Донской, используя счастливую паузу, сосредоточил весь свой шахматный гений и, когда отец вернулся, быстро сделал коварный ход. Папа глубоко задумался, и это привело Донского в такой восторг, что он вскочил и, потирая руки, забегал вокруг стола, выкрикивая счастливым голосом: «Ну что?! Что?! Как вам мой ход?! А?! Это же гениально, а? Это гениально? Вижу, вижу – гениально! А-а-а, задумались! То-то – какая блестящая западня, а, Георгий Иванович?!» Отец взял фигуру, и… его флажок упал…
Сколько потом отец ни пытался отыграться, ничего не вышло. Донской говорил одно и то же: «Не-ет, дорогой Георгий Иванович, нет! Хочу остаться победителем! Буду хвастаться, что последняя с Куницыным партия за мной!»
И ведь сдержал слово Марк Семёнович, не сыграл больше с отцом ни единой партии, оставив за собой последнее слово. Поступок режиссёра, между прочим! Как считают итальянцы – великого…
Куда ты меня тащишь, Джо?
Кто-нибудь пытался освоить английский за пять дней? Я пытался. Не по слабоумию – от отчаяния! Надеялся катапультироваться из тупиковых обстоятельств и оказаться в очной аспирантуре МГУ, тем более что рекомендовала меня туда сама родная кафедра.
Мешало одно, но крайне враждебное обстоятельство. На пути стоял, как германский танк Tiger, – экзамен по немецкому языку!
Поразительное это приключение – английская пятидневка – было пережито не в гордом одиночестве, кстати говоря, а в компании с кинорежиссёром Владимиром Мотылём, снявшим такие знаменитые фильмы, например, как «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Режиссёр, конечно, в аспирантуру не собирался, у него был другой интерес. Но об этом ниже.
Вначале – история приключения, со всеми его тайными пружинами, разогнувшимися в предначертанное судьбой мгновение!
На свет я прибыл, как открылось позже, случайно, поскольку отец родился в 1922 году, а во Второй мировой его поколение полегло почти целиком. Из каждой сотни папиных одногодков выжили, по официальной статистике, – трое. Получается, шансы появиться на свет у меня были невелики, кабы не солдатское везение четырежды раненного отца.
Раз обмолвился о Великой войне, а папа у меня сибиряк, из деревеньки Куницыно Иркутской области, то обмолвлюсь заодно и о роли именно сибиряков в первом поражении фашистов под Москвой, зимой 1941 года. Некоторые историки считают, что ожесточённый отпор, остановивший «немцев» у русской столицы, был важнее даже сражений под Сталинградом и на Курской дуге. Не берусь судить. Скажу только, что отец повоевал и за Сталинград, и на Курской дуге – при любом исходе неторопливой научной дискуссии об этих сражениях.
А сибирские полки ещё осенью 41-го года, в прямом, штыковом столкновении с отборными, чистейшими с точки зрения арийского происхождения, частями СС – вчинили непоправимый моральный ущерб фашистской гвардии – своей пугающей мужицкой стойкостью и воинским умением. В декабре, именно с сибирских (нескольких десятков) эшелонов свежих дивизий, как опять же считают многие знатоки, началось «русское» продвижение к величайшей в истории Победе.
И всё же один подвиг сибиряков, о котором знаю не из прямых документов, а в пересказе свидетелей, поражает воображение особенно как-то мощно. Это история о том, как очередной сибирский полк, прибывший на московский фронт в критическую минуту, когда немецкая гигантская танковая колонна Гудериана почти беспрепятственно накатывала на Москву, – добровольно погрузился в самолёты и с гранатами, противотанковыми ружьями, в белых монгольских полушубках был десантирован в заснеженное поле – без парашютов, которых не оказалось так же внезапно, как и родных танков, артиллерии, укреплённых рубежей глубокой обороны, – десантирован, а попросту говоря, выпрыгнул прямо в снег с борта, летящего на скорости под 70 километров в час, с высоты в 5–20 метров, на бреющем. Разбились каждые 12 человек из сотни, но остальные – удерживали немецкие танки, пока могли шевелиться в глубоком снегу. И дали командиру Г.К. Жукову позарез необходимое время для организации реального сопротивления всем фронтом. Лично я верю, что это не легенда, а так и было…
Поэтому совсем не удивительно, что отец изучал в школе и вузах – дойч. И когда передо мной встал выбор – шпрехать по-немецки или спикать по-английски, я выбрал – шпрехать. Решающий аргумент в пользу данного выбора нашёлся именно у папы. Он бодро заявил: «Если что, с немецким помогу!»
Я же не знал тогда, что на самом деле папа ненавидит этот язык всеми фибрами воевавшей души, учил его после войны спустя рукава, каким-то непостижимым образом пробросив этот сомнительный бонус мне, подозреваю, ещё до моего рождения, так сказать, на молекулярном уровне.
К тому же, обещая помочь с немецким, папа не ведал, что скоро уедет учиться в Москву, в самый разгар моего погружения в язык, говоря специфически.
А теперь – по возможности не бестолково и по порядку – о других причинах пятидневного события, пусть и не таких онтологических, но всё же существенных, как ни крути.
Немецкий «не пошёл» у меня с первого урока. Что-то сразу перекосилось внутри, когда учительница сказала: «Наше “да”, ребята, по-немецки звучит, как русское “я”. Если хотите сказать по-немецки “да”, говорите “я”!»
Что значит – «я»? Как нормальный человек может говорить вместо утверждающего «да» – самообозначающее «я»?
И упёрся я лбом в этот немецкий пень, как баран в непреодолимый психологический казус.
А дальше началась чехарда с переходами из начальной школы в школу среднюю, переездом из Тамбова в Москву, что, к несчастью, только отдаляло меня от языка Гёте и Шиллера, сильно тормозя приобщение к европейской культуре. И это при том, что я и так-то для Москвы и московских новеньких одноклассников был дик, как какой-нибудь тунгус и друг степей калмык. В первый раз я заподозрил эту культурную пропасть между нами, когда учительница по химии попросила позвать в класс девочек, хихикавших на лестнице, и я, уже шестиклассник между прочим, выбежал к ним и гаркнул, как водилось в прошлой, тамбовской жизни: «Девки, училка в класс зовёт!» На что они онемели, а самая симпатичная из них, Маша Рябинина, с непередаваемым достоинством ответствовала: «Мы тебе не девки!»
В московской школе № 192 быстро выяснилось, что мои тамбовские четверяки здесь, на Ленинском проспекте Москвы, – тройки, а бывшие тройки тянут тут только на пару и даже на кол! В число моих личных фаворитов по неуспеваемости входил, разумеется, блистательным чемпионом – немецкий. И до кучи алгебра с геометрией. Они требовали систематической долбёжки, а я давно и весьма успешно выпал из учебного ритма, потерял, так сказать, нить Ариадны, брёл во мраке кромешного непонимания, и как вылезти из этой тьмы египетской хотя бы к слабо мерцающим в темноте троякам – не знал на твёрдый пятак!
Папа, папа, зачем ты бодро обещал мне в начале пути помочь по немецкому?!
И зачем вы, немцы, ставите глаголы в самый конец предложения? Как у детективщиков – не дочитаешь до конца, не будешь знать, кто убил! Ни в русском, ни у англичан, ни у французов, как говорят некоторые сведущие люди, нет такого насильничества, такого бюргерского чванства – выслушивай всё или ни хрена не поймёшь!
Вот так и очутился я на философском факультете МГУ! Это был единственный гуманитарный факультет, где во вступительных экзаменах отсутствовал иностранный язык. А немецкий мне было не сдать нигде и ни за что! Ни за что на свете! И папа, тайно разделяя мою языковую идиосинкразию, к тому же прочитал чрезвычайно убедительную лекцию на тему: «Философия – наука всех наук!»
Когда мне удалось поступить на этот удивительный факультет, выяснилось, что на самом факультете, в недрах, так сказать, учебного процесса, мне не отвертеться совершенствовать свой блестящий немецкий и дальше, до выпускных экзаменов включительно! И опять лёг на плечи всей своей непереносимой тяжестью этот волшебный язык Гегеля и Канта, а самое трепетное по тем временам – Маркса и Энгельса!
Честно говоря, поскольку первые три курса я совершенно не задумывался об аспирантуре, беспечно плевал я и на немецкий. И доплевался до того, что меня возненавидела всем своим ожесточившимся сердцем преподаватель дойча, Жижина Нина Николаевна (сокращённо – НиНи). Приблизительно так же возненавидела, как ненавидел её предмет – я! И это была смертельная схватка двух раскалённых минусов, никогда не способных перемножиться, дабы подарить человечеству хотя бы малюсенький плюс!
Когда стало ясно, что Жижина завалит меня на вступительных в аспирантуру (цитирую её полную любви фразу: «У меня ваш Куницын не пройдёт!»), я заметался. Тут-то папа и вспомнил про своё «…с немецким помогу!».
Помощь его выразилась в том, что он опять обратился к своей бывшей преподавательнице немецкого из Академии общественных наук, давно уже ставшей приятельницей мамы и всей нашей семьи, Нине Пантелеймоновне Роговой. Она безуспешно учила немецкому три академических года папу и заметно более успешно учила там же закадычного друга папы Ал. Михайлова, впоследствии известного литературоведа и критика. Дядя Саша Михайлов был галантным джентльменом, при виде Нины Пантелеймоновны он всегда – сначала в академии, а позже у нас дома – говорил на безупречном немецком одну и ту же единственную фразу, которой овладел в совершенстве.
– Meine Lieblingslehrerin! – говорил Александр Алексеевич Михайлов Нине Пантелеймоновне Роговой, что в переводе с немецкого означало: моя любимая учительница! И потому имел по немецкому твёрдый трояк. В отличие от моего простодушного папы, имевшего тоже трояк, но не твёрдый. Сомнительный…
И вот дошла очередь до меня.
Я говорю – опять – потому что Нина Пантелеймоновна уже пыталась однажды вытащить меня из антинемецкой трясины. Перед самым-самым моим поступлением в девятый класс другой школы. Я приезжал к ней на Садово-Кудринскую, 9, в академию, проходил охрану, поднимался на второй этаж, уныло брёл по тёмным бесконечным коридорам, выглядывая через окна во двор.
Там, во дворе, по-прежнему играли в волейбол новенькие аспиранты, как и мой папа в конце 50-х.
Вот так же тогда, в детстве, я наблюдал из этого же окна, как он делает подачу, и мяч взвивается над двором! В моей памяти он до сих пор так и не опустился на землю, этот мяч.
Летом, перед пионерским лагерем, я жил у папы в Москве, мы спали вместе на одной кровати, а рядом на своей кровати спал сосед по комнате, дядя Василий из Владивостока, тоже фронтовик. Через семь лет его зарежут в родном городе, прямо в подъезде. Василий был очень весёлый человек, я запомнил, как тепло он радовался за отца, когда я приезжал. Бегал мне за мороженым на угол, к краснопресненской высотке, показывал из окна академии, в которой одновременно жили и учились, где тут планетарий, а где зоопарк. Ночью, в открытое окно, я и сам слышал, как издалека трубил своим чудо-хоботом слон, как утробно рыкал лев, и его рык докатывался до нашей комнаты, в которой уже давно спали и отец, и дядя Василий и не спал только я, потому что это была Москва, город, о котором все мои тамбовские друзья говорили с придыханием мечты…
Нина Пантелеймоновна ждала меня в своей аудитории. Ей эти занятия были неудобны, она жила под Москвой, в Кучино, и ей ещё предстояло уже в темноте добираться до дома. Но маме всё равно стоило усилий уговорить её брать деньги за уроки. Я же их и привозил Нине Пантелеймоновне, и в том был мне скрытый педагогический намёк – учись не сачкуя, сынок!
Я уже знал про то, что во время войны, ещё до взятия Берлина, Нина Пантелеймоновна проявила личный героизм в разведывательной спецоперации. На фронте она какое-то время работала переводчиком в подчинении у самого Василия Сталина. Знала множество диалектов лучше немцев. И ко всему этому счастью неожиданно прибавилось ещё одно обстоятельство – Нина Пантелеймоновна оказалась поразительно похожей на нашу разведчицу-резидента в Берлине, на которую уже шла охота абвера.
И вот что произошло дальше – вместо настоящей разведчицы Нину Пантелеймоновну сажают на нужный пароход и, ничего не объясняя, говорят, что в случае чего в плен не сдаваться.
Пароход благополучно отчаливает от берега в ночь, плещется за бортом вода, к Нине Пантелеймоновне с обеих сторон борта направляются два господина в шляпах и, как водится, длинных плащах, она стряхивает туфли, вскакивает на борт и, откинув прядь закрученных волос набок, бросается в шипящую тьму реки, тут же щёлкают выстрелы, их гасит ночь, вода, взмахи собственных рук…
Потом, позже, срочно переведённая в другую часть, она поймёт, что её использовали вслепую, спасая другую, «более дорогую» жизнь – ценой жизни ничего не знающей о разведке «подсадной уточки», поскольку никто и подумать не мог, что она спасётся. И будет долго-долго молчать о своём тайном героизме, подписав все бумаги о неразглашении. И расскажет однажды нам этот случай, посмеиваясь над своей наивностью и всё же признаваясь, что плыла на огни, но до конца не верила, что доплывёт.
И предупредит, чтобы мы «никому», мало ли! И я вот пишу о её героизме на зыбкой почве разведки, а сам сомневаюсь – можно ли уже говорить об этом, не тайна ли это какая? Ведь прошло-то всего семьдесят четыре года с тех легендарных времён. Не сто же лет!
Однажды Нина Пантелеймоновна пригласила меня приехать к ней на занятия не в академию на Кудринской, а в Кучино, к ней домой. И с ночёвкой, чтобы позаниматься и на следующий день. К этому времени у Нины Пантелеймоновны появился наконец-то мужчина. Официальный муж. И это было интересно, поскольку так уже привыкли все в нашей семье к её бытовому одиночеству! А ведь она была всего-то чуть старше папы и, по сути, находилась в прекрасном женском возрасте, побольше сорока, но меньше пятидесяти. К тому же – теперь на это обратили специальное внимание и «старинные» друзья – «Lieblingslehrerin» имела при невысоком росте очень ладную, пропорциональную фигурку, прекрасные шатенистые волосы и добродушное лицо с милой, обаятельной улыбкой искреннего, отзывчивого и прямого человека.
Замуж она вышла за Георгия Боголепова, звукорежиссёра с «Мосфильма». Отчаянного меломана.
Как только я вошёл в загородный дом Нины Пантелеймоновны, снял своё зимнее пальто и стряхнул с шапки снег – дядя Юра схватил меня за руку и поволок в самую большую комнату, где стояла его музыкальная аппаратура.
В те годы и стереомагнитофонов почти не было, а дядя Юра бросился показывать мне расставленные по всей площади комнаты колонки, и их было не меньше шести, что меня искренне поразило – к бурной радости дяди Юры.
Он усадил меня в специальное «демонстрационное» кресло, с тщательно рассчитанным расстоянием от каждой колонки, и нажал на магнитофоне кнопку. На меня со всех сторон обрушился джаз! Я выкатил глаза, как трубач Луи Армстронг, дядя Юра зашёлся от восторга, охлопывая меня по плечам, и, перекрикивая сложную гармонию Дюка Эллингтона, закричал на весь дом: «Наш человек! Наш!» В этом месте заранее организованного дядей Юрой хаоса прибежала Нина Пантелеймоновна и увела меня на немецкую казнь.
Вечером, после занятий и ужина, за которым дядя Юра безуспешно пытался напоить меня водкой, мы успели прослушать пять вариантов знаменитой композиции Эллингтона «Караван». А на следующий день отсмаковали ещё двенадцать вариаций разных исполнителей той же композиции, включая, конечно, и самого неисчерпаемого Дюка.
Дядя Юра, вполне счастливый и алкогольно весёлый, пошёл проводить меня до станции уже в сумерках. На фоне этих сумерек профиль его лица с огромным носом, картинно и горделиво загибающимся к безвольному, крошечному подбородку, под которым ходил почти такой же грандиозный, как и его нос, кадык, – профиль этот сам смотрелся как джазовая композиция, но в единственном, эксклюзивном экземпляре. Уже на платформе дядя Юра сунул свой красный, индюшачий нос ко мне за воротник пальто, прямо в шарф, поближе к уху, и сказал: «Бабы нас любят не за красоту, а за неугомонность импровизаций».
Я покраснел, потому что после слова «бабы» представил «майне либлингслерерин» Нину Пантелеймоновну и сразу как-то сообразил, что дядя Юра рядом с ней задержится ненадолго. В отличие от звукорежиссёра Боголепова, раба и фана музыкальной страсти, его незаурядная супруга обладала неисчерпаемыми сведениями из различных наук, включая астрономию и океанографию, поимённо знала всех фараонов Египта, включая побочную родню, что уж говорить о русских князьях, царях и боярах?
Так оно и вышло.
Позже ещё выяснилось, что Нина Пантелеймоновна, оказывается, с фронта страдала странным недугом: у неё начиналось головокружение и сбой вестибулярного аппарата при стереозвуке! А значит, она реально любила дядю Юру, коли протерпела его с шестью орущими на всё Кучино стереоколонками целых полтора года.
Но вернусь к аспирантуре. Итак, я опять сижу напротив Нины Пантелеймоновны, до экзамена два месяца, она в панике больше моего, потому что глубже понимает, насколько я не готов.
Чтобы получить хоть какое-то удовольствие от наших занятий, я попросил Нину Пантелеймоновну прочитать на немецком что-нибудь из Гёте, например. Я же знал уже, что она владела всеми основными диалектами языка. И Нина Пантелеймоновна, как артистка на сцене, объявила название произведения, затем автора, а потом наизусть прочитала сами стихи:

