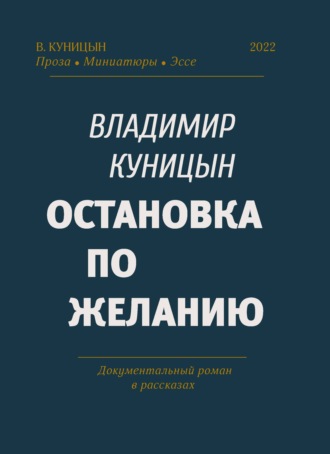
Полная версия
Остановка по желанию

Владимир Георгиевич Куницын
Остановка по желанию
Посвящаю эту книгу моим детям – Даше, Георгию и Леониду
© Куницын В.Г., 2022
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2022
От автора
Вначале хотелось написать книгу для себя, чтобы интересно было читать самому, причём с любой страницы, да хоть бы и с конца наперёд.
Потом додумался, что неплохо бы сделать её интересной и собственным детям, родным, друзьям. Всем, кого люблю.
Но для такого читателя – лабуду писать ужасно стыдно!
Потому начинал писать я эту книгу с воспоминаний о лучшем человеке в моей жизни – о своём отце. Достаточно из его биографии всего нескольких фактов, чтобы понять моё внутреннее побуждение.
Например, что мой отец воевал под Сталинградом и на Курской дуге. И благодаря ему появились на свет такие выдающиеся фильмы, как «Андрей Рублёв» А.А. Тарковского и «Берегись автомобиля» Э.А. Рязанова.
Да что говорить, в основном благодаря отцу я соприкоснулся со многими людьми, ставшими славой и гордостью России, будь то литература, кино, театр, музыка или живопись. Как же было не попробовать написать хотя бы о некоторых из них?
Книгу я назвал «Остановка по желанию». То есть, в неё можно войти и из неё выйти – на любой «остановке», по личному капризу. Её в самом деле можно читать с любой страницы. Состоит она из разных литературных пазлов – сюжетов, миниатюр и эссе, которые самодостаточны, но все вместе как-то работают на общий замысел, о котором лучше судить читателю.
По мере её написания я давал читать частями эту «строящуюся» книжку двум дорогим для меня людям, мнение которых высоко ценю.
И обоим одновременно предложил написать предисловие. К моему счастью, оба согласились это сделать, и потому у книги – два предисловия.
Одно принадлежит выдающемуся историку русской литературы, писателю, автору многих телевизионных фильмов, знаменитому исследователю творчества Н.В. Гоголя, литературному критику Игорю Петровичу Золотусскому, с которым я знаком более сорока лет.
И другое предисловие написано поэтом Иваном Ждановым, на мой взгляд, одним из крупнейших поэтов в своём, по крайней мере, поколении. За десять последних лет нашего дружеского общения, на глазах у него, она и написалась.
Если честно, горд, что мою книгу напутствуют два этих человека, уже вошедших в историю отечественной литературы как ярчайшие её участники.
Доброе сердце
Я с улыбкой и удовольствием читаю многожанровую прозу Владимира Куницына. С улыбкой, потому что автор от природы одарён юмором, который, впрочем, часто соседствует с иронией. В юморе он мягче, в иронии жёстче, а порой просто ядовитей.
То, что это дано от природы, я улавливаю седьмым чувством. Ни ум, ни законченная им аспирантура философского факультета Московского университета не могли бы наделить его этим даром.
Что же касается «удовольствия», то я неточно выразился. Скорее, это душевное удовлетворение, должно быть, от столь высоко ценимого мной таланта Куницына.
Когда я, спустя много лет после нашего первого знакомства, прочитал его прозу, то я тут же вспомнил завещание Юрия Петровича Лермонтова, обращённое к своему сыну: «У тебя доброе сердце».
У Куницына именно такое сердце, наверняка полученное им по наследству. Ибо родители его – люди замечательные, а отца его Георгия Куницына я считаю одним из лучших людей двадцатого века. Сын недаром так часто обращается к его личности, чья жизнь (это моё мнение) достойна героического романа. Мы все, жившие в одно время с Георгием Куницыным и знавшие его, почитали его за благородство и отважное сопротивление всякой несправедливости. Я же горжусь, что жил с ним на одной улице в Переделкино.
Иногда игривая, блещущая цитатами из разных философов (порой их чрезмерно много), проза Владимира Куницына вышла-таки из-под сердца и прямо направлена в моё сердце – сердце читателя.
Пишет он действительно во всех жанрах. Тут и короткая зарисовка какого-то житейского случая, и убийственная рецензия на претенциозный фильм режиссёра, выдающего себя за знатока русского народа, а на деле относящегося к нему как к отвратной толпе.
Читать Куницына нескучно: выбор сюжетов, действующих лиц и весёлые рассказы о самом себе (себя он держит в безусловной строгости), о своей семье. Всё это внезапно переходит на территорию вымысла, и тогда из-под его пера рождаются нештампованные истории. Таков, например, рассказ о встрече с женщиной и внезапном сближении двух до того незнакомых людей, причём, сближение происходит при обоюдном воспоминании о любимых ими стихах. Кончается же это сближение непредсказуемой развязкой.
Трогает меня краткий очерк-воспоминание о встрече со своей любимой няней, где автор клянёт себя за то, что на мгновение позволил отвлечься от её исповеди в то время, как, ослепши в старости, она не могла видеть этого его проступка.
Язык Куницына лёгок, быстр, успевает на ходу обогащаться, набирать и набирать, черпая из бытовых, житейских, а то и философских глубин.
Я сам склонен к меткому слову, неожиданной метафоре, а главное, к свободе писания, когда всё, что ты хотел сказать, льётся само собой.
Эта свобода есть в прозе Куницына.
Если собрать его разножанровые записи в книгу, то нарисуется портрет человека двадцатого и начала двадцать первого веков, человека наблюдательного и тонкого, способного видеть то, что вот-вот произойдёт в реальности.
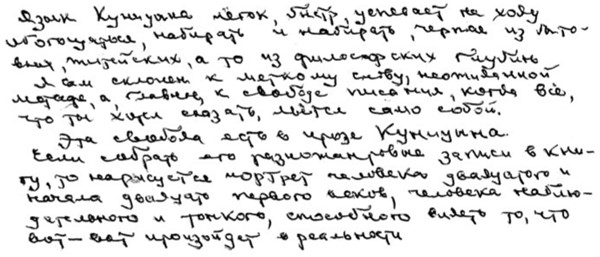
При этом реальность и наша текущая жизнь занимает Куницына в первую очередь. Он не топчется на пятачке Тамбова, где родился, или давно освоенной им Москвы, а озирает видимое им пространство, не страшась политических «нельзя». Владимир Куницын человек весёлый и одновременно (не побоюсь этого определения) мудрый. Читать его стоит. P.S. Это предисловие написано два года назад. У меня есть что к нему добавить.
За это время талант Куницына окреп и усилился. Расширилось обозримое им пространство. Если раньше у Куницына преобладали краткие воспоминания детства, которые неожиданно открывали ему мир и себя, то теперь он выходит из этих границ и обращается к событиям социальным, требующим помимо всего капитального знания. Это и проникновение в ранние, далёкие от него отношения между людьми, в их быт и переплетения судеб, где в частную жизнь врывается эпоха.
Таковы, например, рассказ «Воздушный гимнаст» и повествование о восстании крестьян в 20-е годы в Тамбовской губернии, что обычно называется «антоновщина». Куницын-историк не уступает здесь Куницыну-наблюдателю.
Вспоминаю критический семинар, которым руководили Анатолий Ланщиков и я. Там начинающий Володя Куницын был одним из первых. Для того, чтобы обострить в нём это чувство первенства, я часто сурово отзывался о его работах. Теперь я этого сделать не могу, ибо Куницын занял своё прочное место в литературе.
В свою новую книгу он намерен включить очерки о его встречах со знаменитыми людьми. Я думаю, что это многое добавит к нашей мемуаристике.
Володя Куницын – мастер точного слова и неизменно твёрд в своих представлениях о нашем времени.
Игорь Золотусский
Завидная судьба
Если есть судьба, то возможны и комментарии к ней. Комментарий может вырасти до романа, до грандиозного наукообразного исследования, а может свестись к дневнику или ещё тому подобной письменности: в виде очерков, заметок, лирических миниатюр и т. п.
Жизнь – вообще роман с непредсказуемым эпилогом. Можно забегать и вперёд с комментариями несуществующего. Но только в этом случае идёт передоверие к тому, кто этот эпилог видит. А если это всё-таки не так: т. е. это тот случай, когда и Ему этот эпилог неведом, или, по крайней мере, Он заинтересован в неведомости этого эпилога? Но так глубоко мы не смеем вглядываться в свою судьбу. А зря.
С точки зрения единственно возможного повествователя всё должно быть заранее ясно: от сих до сих. Но не так всё просто: у автора до конца сохраняется интрига. А что, если и этот (главный) не знает, не знает, и зачем ему знать? Если всё интересное выражается в незнании.
У Куницына завидная судьба, и всякому понятно, почему она завидна: достаточно прочитать его очерки (миниатюры) о своём отце – в этом главный инстинкт его писаний о нём. Это уже достаточное основание для оправдания его сочинения. Задача (для творчества) состоит только в том, чтобы написанное было бы достойно объекта повествования.
Но тут уже в дело ввязываются такие категории, как мастерство, знание и стилистическая безупречность. И в этом смысле автор достаточно корректен. Письмо у Куницына безупречно. И он даже пытается варьировать эту безупречность, хотя и не всегда оправданно.
Но это всё пустяки перед огромным замыслом, который существует помимо автора. Ему только остаётся оправдать этот замысел.
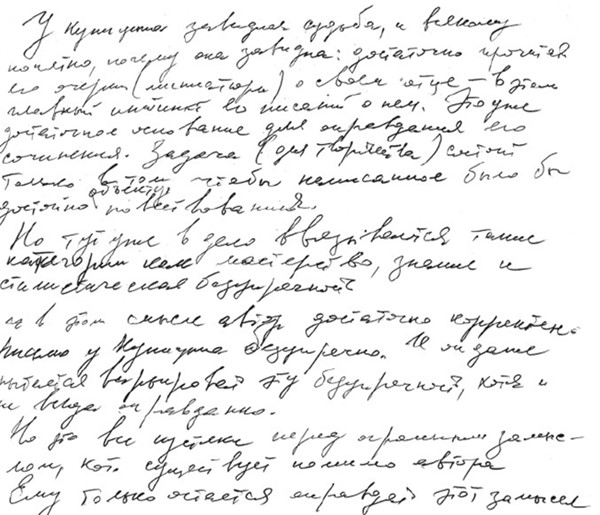
Хорошо сидеть под деревом платана, если ты – Будда – он-то может и забыть, под каким деревом был. А нашему герою об этом никак не забыть – нужно только стремиться быть его достойным. Одно, когда ты пишешь комментарии к своему подразумеваемому роману, другое – когда ты хочешь освоить роман своих предков, в какой-то степени известный, а вообще-то чья безусловность оказывается твоей прерогативой. Т. е. речь идёт о таких оттенках повествования, от которых и зависит вся окончательная правда.
Мы стремимся в достижении этой правды добиться объективно-сти – холодной и как бы юридически точной, а на самом деле – всё это чепуха, если не озарено огнём любви.
Лодка в облаках
(Документальный роман в рассказах)
Две рубашки
Считается, если родился «в рубашке» – счастливчик. Но не все знают, о чём речь. И не чуют иронию.
Дело в том, что под «рубашкой» имеется в виду обволакивающая младенца, как непроницаемый пузырь, плёнка, не дающая ему дышать. И коли он всё же рождается живым, то, стало быть, несказанная удача привалила парню, если это и впрямь парень, как, например, я.
Моя мама, крайне стеснительная в личных подробностях, не так давно всё же проговорилась, что рожала меня двое суток. Было ей тогда 23 года. Схватки шли, а роды не начинались. Мама из гордости не кричала, как другие, предпочитая давиться стонами. Канитель эта надоела акушерке, давно огрубевшей от повседневных чужих страданий, и она с досады выкатила маму в коридор. А поскольку прошло уже два дня с начала родов, мама почернела и даже стонать почти не стонала.
Вот тут-то, как пишут в романах, и пошла мимо опытная женщина-врач, вот тут-то она, в коридоре, и разглядела её почерневшее лицо и уже, пожалуй, отрешённость на этом лице.
Врачиха взметнула на акушерку кулак, освежила солдатским матом, прикатила маму в операционную, разрезала «рубашку», после чего мама родила меня практически сразу. Оказалось к тому же, «рубашек» было – две! И мне, конечно же, самому через них было не прорваться, как бы мама ни тужилась. Редчайший случай!
А ведь не выкати «чёрствая» маму в коридор, и некому было бы рассказывать эту историю. И не родились бы у мамы следом за мной ещё два мужичка. Да боже ж мой, сколько не случилось бы всякого вовсе!
Но вышло так, как получилось, – акушерка, одубевшая сердцем женщина, выкатила с глаз долой никак не рожающую «дуру» прямо под нос фронтовому врачу.
Вот и задумывайся – а пить ли и за акушерку тоже, мучившую нас с мамой пару суток?
И почему «рубашек» оказалось две? Зачем мне одному столько «счастья»?
Первый день
Мама, ты не помнишь этого дня, он для тебя был таким же, как и остальные, но в моей жизни это был первый день. Не знаю, сколько мне было в этот день, может быть, уже год, и я ещё не умел говорить, но вдруг, в какое-то мгновение пелена рассеялась, я увидел косой луч солнца слева от окна и свои руки, протянутые к тебе, и руки твои, поднимающие надо мною белую рубашку. Я не помню твоего лица, не помню слова, которые ты мне шепчешь, но я чувствую в эти мгновения такой восторг и ликование, такую полноту счастья, что, кажется мне, вся моя жизнь потом – спуск вниз с этой вершины.
Мама, ты обняла, прижала меня к себе, целуя мою голову. Может быть, ты догадалась? Но я помню, помню эти самые первые ощущения – как тёплая твоя волна, смешавшись с солнечным светом, накрыла меня, как ласковый, нежный голос твой мягко принял мой восторг, и я растворился в твоей любви, а ты – в моей. Золотистый купол накрыл нас обоих, и мы замерли, прижавшись друг к другу, под его сводом.
Никогда, никогда больше я не был так счастлив! Так защищён, силён, так чист. Никогда больше я не чувствовал такого бесконечного слияния с жизнью, её успокаивающей сутью. Мама, спасибо тебе! В этот первый день моего прозрения ты встретила меня любовью. В этот чистый день твоё дитя было ангелом. Задирая голову из сегодняшней ямы на ту вершину, я точно знаю, что это единственный день в моей жизни, к которому могу я припадать с лёгким сердцем.
Мама, мальчик! Не размыкайте объятий! Стойте под своим золотым куполом в солнечном луче! Смотрите, как весело искрятся пылинки. Над вами сошлась крестная сила любви. Не размыкайте объятий! Под этой защитой вы бессмертны…
Зимнее утро
С мамой связаны незабываемые воспоминания. Вот одно – из тамбовской ещё жизни. Зима, зябко, темно. Мама собирает меня в школу, я во втором классе начальной № 4. Она на углу Советской и Коммунальной – три остановки на автобусе. Маме тоже в школу, но дальше моей – в № 16. Там она преподает русский и литературу.
Выходим из дома на Интернациональную – как в гигантскую чернильницу: воздух густой от фиолетового цвета. Недвижен морозный туман, зло и оглушительно скрипит снег. Сворачиваем в Базарную – вдоль дороги сдобные сугробы выше моей головы. Мама кричит: «Автобус!»
Бежим с капустным хрустом к Коммунальной. Там трясётся от холода лупоглазый, похожий на потерявшуюся собаку жёлтый автобус. Ждёт нас, едва расцепив двери, смотрит маленькими окошками, тускло поблёскивают обледеневшие стёкла, за которыми угадываются в сонно слипшемся частоколе сумрачных теней люди. Мама хватает меня и вминает в чёрные спины, цепляется руками за полураскоряченную дверную гармошку. Я чувствую её горячее дыхание в моё ухо, ноги её сейчас – я живо представляю это – скользят по нижней ступеньке, каблуки над дорогой: двери не сходятся. Народ, согревшийся в общем комке, орёт шофёру: «Давай! Жми, рябой!»
Автобус трогается, я чувствую спиной всё могучее напряжение мамы, впереди царапает щёку вонючим ворсом чья-то шинель. В автобусе изысканный коктейль из запаха вчерашней водки, чеснока, махорки, колбасы и пота.
Но толчок – всё вдруг изменяется вокруг! Я на мгновение осязаю пустоту за своей спиной – там, где только что бурлило физическое сверхусилие мамы. Мелькнуло фиолетовое, по краям пожелтевшее небо, мелькнули мимо двери, только что близкие спины – мама резко выпала из дверей спиной назад, плашмя, навзничь, успев притянуть меня к груди, защищая собой от удара.
Мы падаем прямо в шапку придорожного сугроба, поднимая вихрь снега. Снег свежо окатывает нас своей алмазной пылью, я кричу в ужасе: «Мама!» Пытаюсь спиной понять: как она? И в ответ слышу её молодой смех: она хохочет, не может остановиться, горячо прижимая меня к себе. И ей всего тридцать лет, всего тридцать… А будет ещё девяносто.
Не единственный
Когда родился брат Миша, я не сразу сообразил, что перестал быть главным. В день, когда его, ещё безымянного, привезли из роддома, положили на диван и все, включая соседей, столпились вокруг – я, прижавшись к стене, одиноко смотрел на пританцовывающие у дивана ноги и пытался осознать – а кто теперь я?! И ждал, ждал, когда же обернётся мама?..
Через три года появился ещё один младший брат, Иван. И я вновь стал главным, но как старший. Не как единственный…
Тамбов
Уже через неделю после рождения меня пытались сожрать тамбовские клопы. И не успели!
Родители вернулись из гостей раньше, насекомым попросту не хватило времени оставить на простыне одну шкурку. Между прочим, я был крупным экземпляром, потянувшим при первом взвешивании на целых четыре с половиной килограмма. Про рост молчу, у этих Cimex lectularius интерес вызывал, конечно, мой вес, дабы вычесть из него до последней капли свеженькую грудничковую кровь!
Суровыми были клопы в голодную послевоенную пору! Не их вина – в том судьба их сущности.
По словам мамы, её насторожила моя возня и громкое протестное кряхтенье. Отец зажёг лампу, мама раскрыла пелёнки, и, как с возмущением вспоминает до сей поры – я был так дружно обсижен клопами, что скрылся под ними целиком!
Второе потрясение острого момента, по словам мамы, – звук падавших кровососов! Раздувшиеся твари, разбегаясь, тяжело и как-то сыро шмякались на пол, словно пьяные мужики в бане.
А ведь запомнил я этот случай в недельном от рождения возрасте! Уточняю специально для коллективной научной мысли, которая в корне отрицает столь раннее пробуждение сознания. Но поди поспорь с очевидным фактом!
Воспоминание, конечно, было смутненьким, не слишком отчётливым, но оно было. И даже беспокоило десятилетия, пока мама не изложила подробности клопиного, говоря изысканно, форсинга. Это воспоминание, соединённое теперь с рассказом мамы, и состояло-то из нескольких секунд вдруг открывшегося перед глазами света! Похожего, между прочим, на бледное облако, внутри которого всё завораживающе клубилось. Облака тревожного, как бывает тревожно колыхание на ветру недовысохшей наволочки, раскинувшей богатырские плечи от одной деревянной прищепки до другой, на верёвке посреди двора.
Пожалуй, будет вежливо сообщить, по какой причине я оказался в хищных лапах именно тамбовских вампиров.
В мае 1948 года моего будущего папу комиссовали в возрасте двадцати шести лет из армии, как «фронтового» инвалида. К тому времени он находился с моей маменькой в посёлке Капустин Яр Астраханской области. В должности начальника штаба 59-го отдельного инженерно-сапёрного батальона. А этот факт сообщает, что папа успел поучаствовать в создании самого первого в СССР полигона, с которого в 1947 году стартовала дебютная советская баллистическая ракета! Затем, в 1962 году, полигон станет ещё и космодромом. Выходит, полгода маминой беременности я тоже провёл в Капустином Яру, возможно, сопровождая первые старты мощных сверхракет нервными тычками пяток в мамин «глобус».
До моего рождения в августе 48-го года оставалось три месяца, а куда деваться из Капустина Яра, родители не знали. Отец списался с фронтовыми друзьями, и «нас», почти уже троих, пригласили одновременно в Питер, Подмосковье и Тамбов. И только в Тамбове предполагалась для проживания отдельная комната. Отеческий выбор пал на Тамбов, в нём после войны осел с семьёй Николай Фёдорович Шавлов, близкий фронтовой товарищ папы.
Обосновался он в небольшом деревянном доме, с печкой как раз в «нашей» будущей комнате. А за печкой у Шавловых уютненько топталась тёлочка, целыми днями смачно хрумкая чудесной, душистой травкой. И вот появился тут я, и мы наперегонки с тёлочкой принялись расти. Она, дабы стать благородной коровой и затем отдавать людям молоко, а я вычмокивал молоко из мамы, чтобы сначала стать мальчиком, а потом мужчиной.
В этом месте маминого повествования я отчётливо представил себе, как к моей постели, когда я оставался в комнате один, подбиралась тёлочка и, влекомая пробуждающимся материнским инстинктом, вылизывала мою голову горячим, шершавым языком. И наверняка именно поэтому у меня единственного в семье были совсем тонюсенькие, невесомо-нежные волосы.
Когда мама поведала, что я мог стать жертвой клопов, но не стал – благодаря тому, что родители вернулись в свою комнату от Шавловых раньше, чем собирались, – я вскричал: «Этот свет я помню! Я помню этот свет!»
И теперь только догадался, что это были за одуванчики в моём первом в жизни видении, соприкоснувшиеся своими дымчатыми шарами на фоне беспокойного облака-наволочки. Это были склонившиеся надо мной головы моего отца и моей матери.
Ещё подумал, что, возможно, этой же ночью в желудках Cimex lectularius моя кровь соединилась с кровью семейства Шавловых, и в каком-то неформальном смысле мы стали родными.
Затем моя фантазия взяла выше, я представил весь город Тамбов, кишащий бандами насекомых, перебегающих по тёмным дворам от дома к дому, чтобы попробовать человеческой кровушки здесь и там, перемешивая разные гены и ДНК в своих «мобильных лабораториях», возможно, с отчаянной надеждой вывести породу людей, которые перестанут травить клопов ядовитым дустом хотя бы в отдельно взятом Тамбове.
Через год-полтора отцу, как редактору местной молодёжной газеты, выделили собственную жилплощадь – в шесть квадратных метров, но с высоченным потолком и персональным красивым окном, выходящим на городской базар. В первом этаже.
В этом двухэтажном доме когда-то, до революции, жил богатый купец Аносов. А теперь тут, на улице Красной, стал жить я, мои родители и ещё фамилий десять, поскольку просторный купеческий дом с роскошным залом в семь окон по фасаду задолго до войны превратили не только в огромную коммуналку, раздербанив на клетушки, но и – опять же! – в клоповник. Здесь я и продолжил «сдавать» кровь в клопиный городской общак, попутно заводя невольно всё новые кровные узы с доставшимися мне земляками по воле судьбы.
Между прочим, говорят, что постельные клопы упоминаются в древнегреческих источниках с IV века до нашей эры. О них рассуждал великий философ Аристотель, а Плиний уверял, что клопов можно использовать при нейтрализации змеиных укусов. Да что там! В XVIII веке Жан-Этьен Геттар, одно время бывший личным врачом Людовика де Бурбона, герцога Орлеанского, на полном серьёзе рекомендовал использовать клопов для лечения истерии.
В XVI веке завоеватели Нового Света завезли клопов в Америку, а в 60-е годы XIX века, с приходом в Туркестан русских войск, постельный клоп по-хозяйски обосновался и в Средней Азии.
Так что роль клопа во всемирной истории пока ещё ждёт своих исследователей, и, возможно, мой опыт общения с ними будет учтён пытливой мыслью серьёзной науки.
Возвращаясь к своей истории, подчеркну – не было во всём Тамбове роднее мне людей, чем семья Шавловых, в первые же дни моего появления на свет ставших моими «кровниками». Слово это различается у русских и кавказцев. У нас оно значит – родственник, брат.
Важно сказать, что, когда отец и мама приехали в Тамбов, у Шавловых уже имелся первенец, сын Володя, с рождения разбитый церебральным параличом. Володя был старше меня на год, и всю жизнь свою (до сорока с лишним лет) он прожил фактически на руках несчастных родителей – и в инвалидной коляске.
Его мама – все звали её Шурочкой – познакомилась с Шавловым и моим отцом на фронте. Она, миниатюрная, как статуэтка балерины, была отважным санинструктором и вытащила из-под пуль и снарядов не одного только своего подраненного Николая Шавлова, а очень много молодых парней и мужиков, гораздо тяжелее и больше себя. У неё и боевых наград было погуще, чем у Николая Фёдоровича!
И вот она родила мальчика с жестоким недугом. Почему же судьба не поскупилась для неё и на это испытание?! В чём был тут замысел у этой судьбы?!
Такими неразрешимыми вопросами я задавался всякий раз, когда видел Вову Шавлова в коляске, с выкрученными в стороны суставами рук и ног, с падающей головой и судорожной попыткой хотя бы в мычании что-то мне сказать. И всякий раз я поражался весёлой радости, с какой он смотрел в мои глаза! Будто меня и ждал все дни и годы, что мы не виделись. И я каждый раз с замиранием сердца подозревал, что там, внутри себя – он всё понимает, а душою ясен и здоров!
Одно из самых сокровенных воспоминаний детства – поездки в гости к Шавловым и те незабываемые мгновения, когда бросались ко мне навстречу бабушка и Шурочка, вперегонки, мимо моих родителей, как к самому драгоценному гостю, горячо загребая в многорукое объятие.
Помню их глаза того же цвета, что выцветшее небо, совсем близко. Они загораживали всё и отгораживали от чего-то. Я ощущал это своим детским сердцем, потому что в глазах их была такая любовь, словно и не они на меня тогда смотрели, а через них смотрел Господь.
Что скажешь сейчас, когда их давным-давно нет на свете, а я всё помню и помню выражение их глаз? Кто поверит, что необычайное чувство их к чужому ребёнку – спасало меня не раз в тяжкие времена жизни, что я хватался за них, бабушку и Шурочку, как за соломинку, и эта невесомая в материальном, грубом мире сила – чудом удерживала мою голову «над водой»! Не давала захлебнуться.

