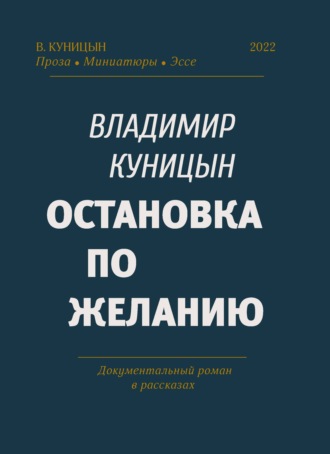
Полная версия
Остановка по желанию
Как не вспомнить и тогдашние дворы? В каждом, почитай, выёживались по пьяни свои, местные уркаганы. По их татуировкам с малолетства постигалась нами «народная живопись» – в буквальном значении этих культурных слов. Судьба и вера Божьего раба декларировались синей тушью и горячей иглой – по живому ещё телу! И до конца сосчитанных на небесах дней уже было не вытравить эти «письмена судеб», «послания потомкам», своего рода «кумранские рукописи» улиц и застенков!
Ещё разъезжали по городу «чёрные воронки», когда-то бывшие хлебные фургоны, перемастаченные под арестантские камеры на колёсах. Отслеживая их сумрачными прищурами, «расписные» мужики цыкали сквозь проломы в зубах бурой мокренью, вновь задыхались адской самопальной махоркой и втирали в землю голыми пятками свою же слюну, ловко завернувшуюся в пыль, как в бабьи пуховые платки.
А в сарае соседнего двора, скажем, чинно-смирненько стоял в это же самое время трофейный германский мотоцикл с коляской – марки «БМВ». Его хозяин, бывший гвардии танкист Василий, иногда по вечерам выкатывал немецкое изделие из сарая, надевал на голову танковый шлем, правой ногой лягал сверкающий сталью рычаг стартёра; мотоцикл охватывала припадочная дрожь, врубался пулемётный мотор, и весь двор начинал грохотать и синеть от закрученных хвостов дыма! Василий отстёгивал брезентовое покрытие коляски – туда залезало нас трое. А на заднее сиденье, за спиной, садился его чумной от счастья сын Валерка, и мы выезжали со двора на Интернациональную, чтобы оглушить всех на Красной, Коммунальной, Базарной и победно возвернуться домой!
Естественно, Василий был нашим кумиром. После праздника мотоциклетного проезда мы сидели в летних сумерках на брёвнах, Василий курил, а мы по очереди надевали его фронтовой танкистский шлем, разглядывали наколки на руках, вздрагивающие на груди портреты вождей, мощные бицепсы с толстыми синими венами и гордились, что Василий живёт тут, с нами. Самый сильный силач в городе! Эта аксиома не обсуждалась.
Ребята рассказывали даже, что, ей-ей, видели, как он однажды воткнул в свою толстую вену прямо у плеча швейную иглу. Игла, как по реке, проплыла сквозь бицепс, локтевой узел и сама выскочила наружу прямо там, где начиналась вся в мозолях ладонь Василия!
Один только человек на свете не давал мне до конца поверить в безусловное величие Василия – отец! У отца тоже была татуировка, морской якорь между большим и указательным пальцами. На якоре были заметны попытки свести наколку. Но безуспешные.
Я не выдержал мучений любопытства и спросил как-то отца – мог бы он запустить себе в вену иглу, чтобы она от плеча прошла по синей жиле до самой ладони? Папа только взглянул на меня, а затем подвёл черту без аргументов: «Стопроцентная дурь!»
И вот, когда мы опять сидели вокруг Василия, любовались его «фашистским» трофеем, во дворе появился папа. Ещё на подходе отца Василий вскочил, вскинул руку к танкистскому шлему и вдруг почтительно-задушевно поприветствовался: «Здравия желаю, товарищ капитан!»
Тут-то я и увидел, что наш дворовый кумир моему отцу по плечо, не выше, хотя папа завсегда сутулился. А по тому, как стоял рядом с папой Василий, как не спешил садиться на брёвна, пока отец шёл к дому, пыхая папиросой «Казбек», я догадался, что мой папа у танкиста, похоже, в большом авторитете. И снял с повестки вопрос, кто сильнее.
Вот и спрашивается, что я мог возразить отцу, когда он вытягивал из штанов ремень, дабы провести со мной «доходчивый» педагогический урок, если даже гвардии танкист Василий, героический фронтовик, притаранивший фрицевский мотоцикл в Тамбов из самой Германии, так его уважал? А?
А матери что было возражать? У неё в классе сидело за сорок человек головорезов, уличной шпаны! А значит, она от тетрадей не поднимала головы. К тому же приходили на дом «злостные» двоечники, и она, как классный руководитель, вытягивала их успеваемость внеурочно, и не за деньги, как принято нынче.
А тётушка Дуся? Зимние и летние каникулы я частенько проводил в Арапово, под Тамбовом, в интернате для детей-сирот. С её сыновьями-близнецами. Ревниво запомнил, как обожали её интернатские! Все. Без дураков. Как ходили за ней гурьбой девчонки. Мальчишки хвастались перед нею своими удачами, а к ночи, когда отключалось общее электричество, она проходила с керосиновой лампой по палатам и каждому говорила что-то личное.
Я видел со двора, как перемещался по длинному дому свет от её лампы, причудливые тени колебались на стенах, когда она входила в створки комнат. Видел, как сзади тёти Дуси окна вновь захватывает тьма. И это шаткое, какое-то нежное, беззащитное движение света беспокоило и восхищало одновременно!
Старших ребят тётя Дуся часто собирала в своей комнате. Все, как и она, сидели в кромешной темноте на полу вдоль стен. Тётя Дуся без перерыва, резко и судорожно закашливаясь, курила папиросы «Беломорканал», ловко их выстукивая из проделанной дыры вверху мягкой пачки. Огонь вспыхивал при затяжках, освещал её губы, кончик носа, кудри надо лбом, прижавшихся к её плечам девчонок, крашеные половицы пола и – гас, успевая напоследок подсветить грозовые облака табачного дыма. Вспыхивал вновь. Мы «проявлялись» на чёрном фоне, как фотографии, зыбко, тревожно, а тётя Дуся рассказывала истории, одна другой страшнее, и так, что девчонки порой начинали в голос визжать, и мы, «мужики», орали на них в ответ, бросались тапками, торопили продолжение. Веря и не веря, что глухой как пень конюх Сидор – оборотень, по ночам превращающийся в борова, а жена пасечника – ведьма! И у них бывают встречи в самой чаще леса, за пчелиной поляной. И однажды ночью, завидев на дороге огромного чёрного хряка, кузнец пустил на него под гору горящее колесо от телеги, и колесо въехало прямо в свинячье рыло! А на следующий день конюх заявился к лошадям с перебинтованной головой и прятал от людей свои бегающие, высокомерные поросячьи глазки…
Однако душевные ночные посиделки на полу тёти-Дусиной комнаты никак не смягчали суровых детдомовских нравов. Тут за ябедничество и воровство пылко лупили даже друзей, устраивая им общую коллективную «тёмную» с наволочкой на голове. И, бывало, именно лучшие друзья казнили очередную парию с особым остервенением, словно прилюдно отрекаясь от близости, признавая общий закон выше даже самой любви и преданности.
И тётя Дуся никогда не наказывала «палачей», беря их сторону, потому что сама неколебимо верила, что донос или поклёп на товарища, воровство у ближнего – преступление с неотвратимым наказанием!
А дубасила сыновей, словно расписывалась кровью – в том, что для справедливости исключений нет! И не было выше её авторитета в этом доме детской скорби. Все ощущали себя тут равными перед негласными законами. И она, моя тётя, тоже.
Не знаю, выяснял ли кто-нибудь, как влияют войны и революции на участников и свидетелей? Ожесточаются они или, напротив того, – мягчают?
Вспомним хотя бы Великую французскую, от взятия Бастилии до 1794 года, когда очумела даже гильотина? Кто-нибудь исследовал изменения в национальных глубинах французского «я»?
Свободолюбивая нация, показавшая в бесконечно вскипающих революциях милую страсть к живодёрству, в XXI веке, похоже, откатилась в противоположный угол, к нервно-оголтелой толерантности.
Может, этот странный казус и есть исторический итог былого ожесточения? Рефлекс «национального организма» на гражданское кровопускание?
После Людовика XVI, обронившего голову на им же учреждённой гильотине, голова Робеспьера не стоила в глазах толпы ничего. Похоже, боязнь самих себя вынуждает на юридическую подстраховку от рецидивов.
Про нас тоже есть что сказать! Да ещё сколько! Но поговорим о сугубо индивидуальном.
Да, пороли меня в детстве с похвальной регулярностью, хотя я знал точно, что любили, как любил и я своих родимых истязателей. Тогда, в середине прошлого столетия, если честно, лупили практически всех знакомых мне детей, не считая разве что девочек. Но когда за стеной охаживают ремнём твоего дворового товарища – из побоев не рождалось глубокомысленных философских обобщений.
Переживались, как непогода. Тем более что без вины наказывали только по ошибке.
И потому, растирая популярные участки тела, расплатившиеся за импровизации мозга, мы даже между собой крайне редко обсуждали экзекуции, искренне полагая их нормой.
Позднее, сам трижды став отцом, с абсолютной ясностью ощутил я, что не могу задрать руку на родного «бэбика»! Не то что поистязать ремнём, а даже отвесить полноценный подзатыльник! Ну разве вскользячку, практически обозначая символ правосудия. Как прикусывает маленьких львят лев-отец своими огромными клыками, обнаруживая не гнев, а озабоченность любви.
Кажется, не только со мной произошла эта чудесная аберрация.
Давно ли приходилось наблюдать уличные спектакли, в которых принародно наказуют шаловливых чад? Наблюдать все эти свирепо вытаращенные глаза, затрещины, щипки, угрозы сбыть чужому дяде!
А сегодня днём с огнём подобных представлений не сыщешь. И не потому, что экзекуторы попрятались, – уходит из бытования мораль деревенской русской общины. Уходит вслед за исчезновением деревень, сёл, самого уклада, в котором «мы» на первом месте, а на втором «я». Где ребёнок обязан понимать иерархию с рождения.
Но вот и очередной исторический анекдот! На смену семейному диктату – вернулась в Россию 90-х, упразднённая в 1918 году большевиками – ювенальная юстиция, чтобы «карать» теперь от имени детей и закона – ро́дных маму и папу!
Из огня да в полымя! Интересно, что насаждаемый сегодня ювенальный контроль за молодыми семьями, тихой сапой подменивший традиционный общинный порядок, – уже привёл Россию к ощутимому падению рождаемости, поскольку ювенальный надзор, особенно за многодетными семьями, стал у нас особенно жесток. И к тому же не устраняет корень самих проблем.
Страшно подумать о жизни своей, существуй уже в годы моего тамбовского детства эта ювенальная юстиция! Ведь я бы, как уже происходит тут и там нынче, – в минуту обиды и секунду отчаяния мог же ж ведь, как бедный Павлик Морозов, стукнуть на родного батюшку в тот же обком или на маменьку в профсоюз, и приехал бы за мной ювенальный воронок и отвёз в другую область, к чужим людям, и стал бы я сиротой при живых родителях! И очень плохим мальчиком! Я остро сейчас понимаю, что непременно плохим, отвратительным мальчиком! А потом и человеком. Потому как возненавидел бы не только своё идиотическое предательство, но и судьбу, и заодно государство – за жестокость, не совместимую ни с какой любовью!
И подумалось невзначай – а не выступить ли инициатором по установке памятника «Битому мальчику»?! Где-нибудь, на могучей хребтине Урала, посерёдке, так сказать, всеобщего пространства родительского насилия?
Мальчик сжимал бы в ладошке рыбку-краснопёрку, а мать, поразительно похожая на мою, заносила бы над детскими полушариями бронзовый ремень со звездой на пряжке. Как антитезу бесчеловечной ювенальной юстиции!
Памятник, конечно, работы грузинского мастера Церетели, чтобы в ясную погоду был отлично виден из Китая и даже Австралии…
…Сейчас стоят почти летние, последние октябрьские денёчки. Их неожиданно подбросил европейский циклон, но, говорят, он скоро покинет наши посконные пределы. Польют ледяные дожди, равнодушные, как сторож скобяного склада, и уже к пяти вечера начнёт смеркаться. А потому я сижу на солнечной скамейке у химического факультета на Воробьёвых горах, прямо напротив известного памятника Михайле Васильевичу Ломоносову, и вместе с ним подставляю лицо уже перевалившему через зенит солнцу, совсем не понимая, почему его лучи из той же точки на небосклоне не греют так же, как весной в апреле, например? При аналогичной температуре в четырнадцать градусов?
Вдруг совсем рядом раздаётся детский вой. На бетонно-плиточной «земле» разлёгся малыш лет двух и брызжет слезами – видно, что не от боли, а от обиды!
Лежит картинно, подставив ладони под пухлые щёки, как херувим, изредка перекидывая сзади одну ногу за другую, дрыгая ими в воздухе. У двухлетки длинные кудреватые волосы, и, когда он поднимает лицо, видно лицо опытного актёра и одарённого лицемера. Импровизирует этюд на тему: «Меня бросила мать!»
Мимо стенающего мальца деловито снуёт туда-сюда профессура, студенты, праздные, вроде меня, гуляки, но никто не обращает на вопли внимания, будто это в порядке, скажем, научных химических вещей, коли на пути у вас валяется в середине октября на бетонных плитах пацан, а рядом ни отца, ни трепещущей матери!
Так проходит минута, другая, малец в артистическом экстазе, похоже, и не замечает, что лежит не в кроватке, а на уже остывших к зиме камнях, и я инстинктивно чувствую, что время его контакта с бетоном вот-вот подползёт к простудной черте, и уже открываю рот с командой «Встать!» – как примечаю молодую женщину в белом свитере крупной вязки, подчёркнуто невозмутимо, прогулочным шагом и всё же, как пантера, скользящую в направлении «артиста». Догадываюсь, у нас с ней один временной таймер для простудной опасности, и она где-то скрывалась в зарослях местной саванны, выжидая до последнего, в надежде, что малыш не переиграет сегодня, не завалит спектакль ради «искусства для искусства». Но он завалил. И я подумал: «Он точно знает, что она не опоздает, потому и тащится до последнего!» Мать упёрлась одним коленом в плитку, а на второе колено, легко подхватив, уютно усадила своего малыша, он тут же ткнулся лбом ей под подбородок, и они сразу начали шептаться и смеяться.
Я смотрел на них, пока мальчишка не почувствовал взгляд. Он вынырнул из-за плеча матери, и, конечно, я не мог не заметить, как он ликует внутри её защиты!
Они пошли по аллее в сторону новой университетской библиотеки на проспекте. Мы с Михайло Ломоносовым смотрели им вслед. Малыш крепко держался за палец родительницы. Солнце превращало их фигуры в негатив, в силуэты без деталей, но высвечивало деревья по бокам аллеи, саму дорожку перед ними.
Я вспомнил недавний сон.
Странный сон. Мой покойный отец, один из братьев (я не понял, какой из трёх, но знал, что – брат), а также наш общий друг и я сам верхом на лошадях въехали в лес. Нашей целью была охота. Уже это было удивительно, потому что отец после войны отказался от охоты, считал её убийством, ведь у зверья против современного оружия шансов нет!
Наша команда стояла на просеке, солнце светило сзади нас, а потому я представил, как это, наверное, красиво со стороны, из леса.
Я спешился, взял фотоаппарат и пошёл от них, ища наиболее выигрышный план кадра, постоянно оглядываясь, оценивая композицию и освещение. Силуэты всадников и правда были очень красивы издалека – помню, что во сне стояла абсолютная тишина. Кони чуть переступали ногами, от этого картина как-то задумчиво менялась, и в этом зыбком передвижении тоже была красота. Свет идеально струился сверху, выпячивая группу всадников антрацитовым чёрным цветом, а сзади них деревья, подробно и как-то очень нежно омытые солнцем, уходили в перспективу просеки, чем дальше от нашей группы, тем менее сохраняя индивидуальные детали. Я залюбовался картиной солнечного представления, посмотрел в объектив и увидел, как по просеке к отцу, брату, нашему общему другу скачут неведомые люди. Их было значительно больше нас. И они тоже скакали в абсолютной, теперь уже страшной тишине, и было почему-то сразу понятно, что эти всадники с солнцем за спиной приближаются, чтобы убить нас, всех до одного.
Я закричал, но «наши» уже всё поняли. Во весь опор они поскакали не в мою сторону, а значительно левее, беря в лес. И погоня пошла туда же, за ними, хотя я ожидал, что пойдут и за мной. Я забился, пятясь назад, в нишу природного грота, сердце моё, понимая, что «наши» уводят погоню, взорвалось воплем ужаса, представив на долю секунды, что мои любимые люди не смогут, не успеют спастись!
Из своего укрытия я видел этих чужих скачущих людей. Они и невыразимая тишина, совместившись, были страшнее всего, что я до сих пор знал. И мне вдруг отчётливо открылось – смерть пахнет душной, влажной, лежалой пылью…
Мать и мальчик удалялись, удалялись, лишаясь деталей.
– Господи, – взмолился я неожиданно для себя самого, – помоги ему, нам всем помоги! Прости! Мы виноваты, да, но не во всём же, Господи! Или – во всём?!
Отпусти, мужик!
Лет шестнадцать мне тогда было – я вернулся с необязательного свидания, а дом полон гостей. Отец, горячий, хмельной, схватил за руку и втолкнул в комнату: «А это мой сын!» И давай знакомить – с Расулом Гамзатовым, Кайсыном Кулиевым, Чингизом Айтматовым, Евтушенко. Были тут же и Евгений Примаков со своей женой, Лаурой Васильевной, кто-то ещё был, кто – не помню уже.
Я чувствую себя неловко, да что там, полным дураком, потому что понятно, что до меня этим людям – ну просто как до полной балды! Однако краем глаза вижу, что мама чем-то своим недовольна. Проследил за её взглядом: Евтушенко поставил ногу на стул и пьёт газировку из горла, а бутылку ставит на шкаф. Догадываюсь, в чём дело, – мебель совершенно новая, югославский гарнитур, первое, что куплено после «голодного» Тамбова в Москве, пару дней как привезли.
Её коробит нога Евтушенко и, ещё больше, то, что он пьёт из горлышка. В то время – 64-й год – было это для неё, учительницы русского и литературы, проявлением дикой невоспитанности. А для Евгения, догадываюсь, жестом «свободного» человека.
Айтматов тем временем оттеснил меня к новенькому серванту и, дыша водкой в лицо, стал громко, чтобы слышал отец, страстно вопрошать: «Ты понимаешь, какой у тебя отец?! Понимаешь?! Ты знаешь, что твой отец – великий человек?! Знаешь?!» Тут я совсем уже осознал кошмар своего положения! Что ему сказать – «хватит фальшивить, дядя!»? Или просто – «отпусти, мужик!»?
Тогда я мало знал об этих людях. Мало знал и об отце. Тогда я больше знал о девушках. И зря, если честно…
Страшная месть Концевичу
Я оказался в Москве в тринадцать лет. Отца оставили после учёбы в столице, он сгрёб в охапку маму, нас, троих мужиков мал мала меньше, и – прощай, Тамбов! Перед отъездом мама торжественно повесила на гвоздь папин офицерский ремень: «Всё! В Москве, надеюсь, повода для наказаний не будет. Пусть всё плохое останется здесь вместе с ремнём». Но я знал, что обязательно вернусь сюда. Хотя бы для того, чтобы набить морду Концевичу.
Стас Концевич был садистом нашего двора. Ужасом детства. Старше моих ровесников года на три, а то и на четыре. Его отец был алкоголиком и однажды умер прямо на лестнице, не дойдя до квартиры. Наткнулся на него Вовка Окатов. Впервые в жизни мы видели покойника вблизи: помню, как мы, человек пять, мальчишки и девчонки, подкрадывались к нему, прячась друг за друга. У Концевича-старшего лицо было синим. Это наблюдение оказалось общим и, пожалуй, единственным. Точнее, главным, потому что зачем-то до сих пор помню подошвы его сношенных сандалий и пёстрые носки…
Концевич-младший начал попивать лет с двенадцати. Однако ненавидели мы его за изощрённую, с оттягом, беспощадную жестокость. За унижения, от которых было особенно больно, потому что мы были хоть и маленькими, но уже людьми.
В восемнадцать лет я окончил школу и с ходу поступил в МГУ. За этот подвиг мама разрешила на неделю съездить в Тамбов.
Встречал меня мой тамбовский друг, опять же тёзка – Вова Масеев. Прямо у вагона и – на мопеде! Это ж тогда было так круто, как сейчас на «мерсе».
От вокзала мы весело затарахтели по Интернациональной, а значит, никак не могли миновать мой родной, обожаемый детский двор. Вова прислонил мопед к стеночке за углом, закурил, а я стал ждать Стаса Концевича.
Да, я был уже далеко не малолетка. И рост за метр восемьдесят, и ботинок сорок пятого, и кулаки с мозолями от нескольких лет фанатичного увлечения боксом.
Узнал я его не сразу – сутулый, уже испитой доходяга. Я вышел из-за угла и крикнул: «Иди сюда!» Концевич вздрогнул всем телом, как бывает во сне. Вова сидел на мопеде, курил. Я взял Концевича за шкирку и втащил за угол. «Мужики, вы чего?!» Он не узнал меня, конечно. «Щас буду тебя убивать, падла, мразь! Резать буду!» Я сделал вид, что щупаю в заднем кармане ножик.
Вот тут Концевич струхнул всерьёз. Вова Масеев, наблюдавший за встречей «старых друзей» с изысканным равнодушием, потянул воздух и изумлённо огорчился: «Воняет!»
Я отстранился от Концевича: от него действительно вдруг резко и погано запахло. А он именно в эту секунду с восторгом и прозрел: «Куня, ты, ты, что ли?!»
«Забыл, как мучил нас, фашист?» – уже без всякой злобы сказал я. И замахнулся на него. Он пригнул голову, но ясно было: знает – бить не будут. Миновала, как говорится, оказия.
Мне нечего было сообща вспоминать с паном Концевичем. Моя идея – вернуться в Тамбов и наказать его за муки детства – сейчас, рядом с этим несчастным и больным, обрела вечный покой. Но и долго себя стыдить, заниматься самоедством я не стал.
«Поехали!» Мы сели с моим дорогим другом Масеевым на его великолепного коня и помчались в Пригородный лес к его знакомым девчонкам, пионервожатым. «Вова! – перекрикивал я шум ветра и мотора. – Месть позади! Впереди секс и рок-н-ролл!» – «Точна-а-а-а!» – кричал в ответ Вова.
Шел 1966 год. Карибский кризис остался в прошлом, и все люди, которые должны были умереть, были по-прежнему живы…
Стыд
Долго не решался рассказать об этом. Да и случай, на первый взгляд, простой, были стыдобушки позабористей! Но вот почему-то этот маленький стыд не уходит, подкидывается памятью столько лет, к месту и не к месту, и даже снится иногда, но как-то странно всегда улетает, как бумажный самолётик, в побочные дверки, коридорчики, щели за шкафами и растворяется в ассоциациях и вариантах, как лейтмотив в музыкальной импровизации.
А было, собственно, так. Я впервые заявился гоголем в родной Тамбов после семейного переезда в Москву, где отец пустил карьерные корни. Не тринадцатилетним щенком, каким уезжал, а матёрым москалём, успевшим бурно пережить несколько премьер только что открывшегося Театра на Таганке и бешеные ажитации вокруг начальных международных кинофестивалей 1961, 1963 и 1965 годов! Событие для Москвы – сопоставимое с VI Всемирным фестивалем молодёжи и студентов в 1957-м, приятно оглушившим СССР, как ласковой дубиной, – после ядерной-то зимы сталинского культа, если выражаться языком плаката!
К этому же списку выдающихся событий в моей столичной жизни стоит прибавить и то, что я впервые наблюдал салюты на Ленинских горах (ныне – опять Воробьёвых), прямо от пушек, стоявших вблизи смотровой площадки. Праздничные пушки грозно рявкали в сторону Лужников, и однажды опалённая картонная полусфера от разорвавшегося над головой шара, похожая на сванскую шапочку, упала с глухим стуком на асфальт рядом с моей ногой. И я первый сцапал её в руки! Другие зеваки, конечно, стали за неё, ещё горячую, хвататься завистливыми пальцами, словно это золотой слиток удачи, шмякнувшийся с самого неба. Да ведь, может, так оно и было? Впрочем, меня занесло.
Итак, мама перед отъездом строго наказала навестить в Тамбове Екатерину Акимовну, передать ей подарок («вот свёрток!»), а также неразглашённую денежную сумму в заклеенном почтовом конверте. Заклеенном не по причине недоверия ко мне, легкомысленному первокурснику, а поскольку «так полагается» по приличиям, принятым среди культур-мультурных персон.
Я и без маминых напоминаний разыскал бы свою любимую нянечку Екатерину Акимовну! Вот она и была моей личной, как у самого Пушкина, Ариной Родионовной! Потому что с младых лет, пока мама моя, учительница русского и литературы, систематически потчевала знаниями чужих детей, дабы выкормить меня, а затем ещё двух моих младших братьев, – Екатерина Акимовна потчевала меня: сказками того же Пушкина, огромными книжечками с картинками, собственными правдами и выдумками, а также народными преданиями и суевериями, от которых, особенно на ночь, стыла в жилах кровь и перебегали по всему телу сладкие пупырчатые мурашки!
Я считал её своей родной бабушкой настолько крепко, что, когда неожиданно приехала из Сибири в Тамбов папина мама, моя настоящая бабушка Пелагея Ефремовна, в девичестве Попова, а не Куницына, – я не принял её категорически!
Настоящая бабушка Пелагея Ефремовна – высокая, статная, с прямым пробором совершенно не седых, как у Екатерины Акимовны, а тёмных волос, в подвязанном под твёрдым подбородком платке – полюбила сидеть на кухне и наблюдать за тем, как хлопочут у плиты и стола мама и моя нянечка. Сидела молча, как мне казалось – строго, я даже запомнил тёмно-коричневый цвет её шерстяной кофты, чёрную длинную, почти до пола, юбку с глубоким и таинственным карманом.
Однажды она подозвала меня к себе, долго-долго-долго опускала руку в этот свой бесконечно глубокий карман и наконец извлекла из него, с самого его донышка, жёлтый квадрат чайного печенья. И протянула как бы не даря, а делясь, на что я тут же отбежал за дверь. А потом осторожно выглянул в щёлочку – что она делает? Не гневится ли? Однако ничего не произошло, и даже ничего не заметила мама, только Екатерина Акимовна, улыбаясь, покачала головой, но по-доброму, как всё, что она делала. Я имею в виду «всё» – в могучем диапазоне философического смысла.

