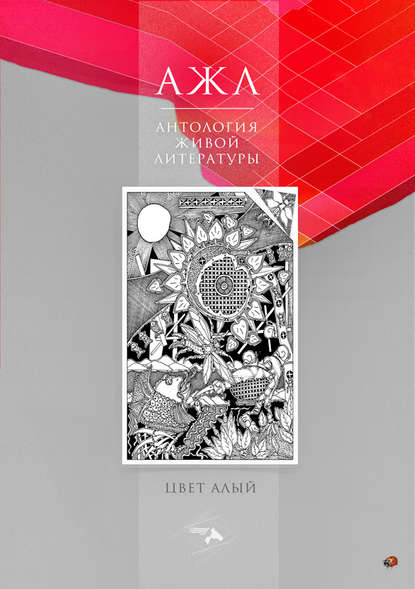Полная версия
Лепесток за лепестком
Сидя за столом в своем кабинете, Юранд ощутил приступ тоскливой апатии. Не в силах сдвинуться с места, старик пустился в спасительные рассуждения.
– Итак, – спросил он себя, – в чем дело?
Сухой ладонью потер лоб.
– Виноват Агесандр, это ясно. Первая зацепка. Теперь дальше… Почему я не хочу спускаться в лабораторию? Потому что это лаборатория Агесандра? Ну естественно…
Дальнейший ход мысли зашел в тупик. Очень долго старик путался в клубке возможных причин своего настроения, пока не ухватил конец тонкой нити, которая постепенно привела к разгадке. Итог размышлений следовало тщательно сформулировать, чтобы смысл разгадки уложился в короткую и точную фразу. На это ушло еще несколько минут. А теперь вполголоса и очень четко произнести эту фразу…
– Если Агесандр не вернется в лабораторию, я не смогу довести работу до конца.
Оставалось последнее: усмехнуться и поверить в абсурд сказанных слов. По лицу профессора прошла напряженная, словно бы чужая ухмылка. Он еще дважды твердым голосом произнес целебную фразу, попытался облегченно вздохнуть… Защитный механизм не срабатывал.
«Да, – тяжело размышлял Юранд. – Я слишком доверился этому юноше, слишком далеко отпустил его вперед… Что мне известно? Только идея Агесандра, и даже не идея. Почти полгода он мне ничего не докладывал. Уверял, что все идет по плану, что пора готовить фанфары и репетировать торжественный гимн… В дурацкое же положение поставит он меня, если не вернется к работе!
Лучше бы мне молчать на последнем заседании Кворума. Старый тщеславный дурак… Теперь они ждут, теперь спросят… Похоже, Агесандр уперся твердо. Но Кон Формен должен его переубедить, должен, должен…»
От этой надежды болезненное давление в голове постепенно уменьшилось, душевное равновесие возвращалось. Он вздохнул и шевельнулся, похрустел суставами пальцев.
«И что за прелесть находят очевидцы в осязании света? Даже Агесандр не устоял. Неужели это в самом деле так соблазнительно?»
– Не понимаю, – прошептал старик. – Не понимаю, не понимаю…
Звякнул телефон.
– Что-нибудь случилось, шеф? – спросил встревоженный голос Мува Шлехтеля. – Вы обещали спуститься к нам, я давно жду.
– Нет, ничего. Я иду.
В камеру они вошли вдвоем. Мув аккуратно придерживал профессора за локоть. В полной тишине остановились, и старик сморщился, напрягая слух.
– Я ничего не слышу, – сказал он. – Они что, передохли тут все?
– Всё в порядке, – успокоил Мув Шлехтель. – Эти твари летают абсолютно бесшумно, у них вместо перьев такие перепонки на крыльях, и еще они могут…
– Знаю, – перебил Юранд и спросил как будто некстати: – Сколько тебе лет?
– Мне? – удивился Мув. – Двадцать восемь. А что?
– Окончил спецколледж?
– Три года назад.
– Готовишь диссертацию?
– Так точно. Пишу.
– Давно в группе Агесандра? Ты его ассистент?
– Да, то есть… Я работаю в должности четвертого помощника.
Вот уже восемь месяцев.
– Это правда, что все эксперименты с летучими мышами Аге-сандр проводил в полном одиночестве и никому не говорил о результатах?
– Да, это так… С тех пор как ему наловили этих мышей, он запирается у себя в лаборатории и никому не позволяет входить.
А что с ним?
– С кем?
– С Агесандром. Вы спрашиваете о нем так, будто его уже…
нет в живых, – пробормотал Мув и поспешно добавил: – Извините, профессор, мне по должности не положено…
– С ним все в порядке. Небольшая простуда, температура и тому подобное. Через пару дней он приступит к работе. – Юранд неловко умолк, признаваясь себе, что его слишком навязчивые вопросы могут кого угодно навести на тревожные мысли. – Просто я давненько не заглядывал к вам в седьмой корпус. Непростительное невнимание для директора института, верно?
– Да нет, ну что вы, – смутился Мув. – Все знают, что вы очень занятой человек и не всегда можете… К тому же недавно вас избрали членом Великого Кворума.
– Вот именно, – проговорил в задумчивости Юранд. – А скажи, пожалуйста, в процессе исследований Агесандр вел записи?
– Да, научный дневник.
– И где он?
– В лаборатории, в шкафу.
– Это хорошо… Проводи-ка меня к этому шкафу. Здесь у вас как-то по-новому переставили столы, зачем это?
– Агесандр приказал, – объяснил Шлехтель, осторожно поворачивая профессора к выходу из мышиной камеры. – Он сказал, что так всем будет удобней.
– Ты должен был меня об этом предупредить. Я прихватил бы тогда свою трость. Там у входа какой-то стеллаж, что ли, я ушиб колено.
– Простите, профессор, не догадался… Вот он, этот шкаф, перед вами. Прямо два.
Юранд сделал шаг вперед и протянул руку.
– На верхней полке, – подсказал Мув.
Профессор взял с верхней полки толстую папку, сорвал печать, достал пачку плотных листов и начал читать, прикасаясь пальцами к выпуклым строчкам.
– Черт знает что, – пробурчал он. – Ну и почерк…
«Это совершенно безобидные твари, мягкие и теплые. Вчера в институт доставлена первая партия, двенадцать штук. Они будут жить в просторной камере, кормить их будут дежурные по корпусу, я попросил директора издать приказ…» Нетерпеливой рукой старик перевернул сразу несколько страниц.
«Шестое марта. Все идет по плану. Вчера приказал усилить вентиляцию в камере – похоже, что мыши начинают задыхаться.
Профессор Юранд предоставил мне полную свободу экспериментов и согласился с моим предложением хранить в тайне ход дела и результаты. Чем меньше народу будет совать сюда нос, тем лучше…» – Тоже мне научный дневник! Полное нарушение инструкции, – проговорил Юранд, перевернул еще страниц десять.
«Все-таки это судьба, и я ее избранник. Как это было?.. Надо вспомнить. Все получилось почти случайно… Я читал энциклопедию позвоночных и наткнулся на описание этих самых мышей.
Они проходили в одной главе с птицами, что меня удивило. Единственное, что делает их похожими на птиц, – крылья. Да, крылья.
Но какие же это птицы? Помнится, я долго размышлял об этом, и вдруг до меня дошел потрясающий смысл строки, всего одной строки, на которой в тот момент остановилась моя рука. Эти мыши летают в холодное время суток, когда исчезает солнце. Когда солнце исчезает!» На последней странице было всего четыре строки.
«…и все это к лучшему, несомненно. Через пару недель можно будет идти к директору с докладом о первом успехе эксперимента.
Но что-то моя голова сегодня… Никогда раньше у меня так не болела голова».
На этом записи обрывались.
– Больше ничего нет? – спросил Юранд.
– Нет.
– Точно? Подумай хорошенько.
– Нет… Больше ничего.
– Так, – сказал Юранд. – Ну хорошо… Я пойду к себе.
– Я провожу?
– До двери, а дальше я сам.
Профессор аккуратно сложил в папку листы дневника, завязал тесемки, сунул папку под мышку и поймал руку Шлехтеля.
– Дневник я беру с собой, – предупредил он.
– Понял, – отозвался Мув. И предложил уже в дверях лаборатории. – Может быть, до лифта?
– Ладно, – согласился старик. – Давай до лифта.
«Но что-то моя голова сегодня… Никогда раньше у меня так не болела голова…» Когда пальцы Юранда вновь остановились на этих строчках, прошло часа два с того момента, как он поднялся из седьмого корпуса к себе в кабинет, чтобы спокойно и не торопясь изучить дневник Агесандра. Как будто намеренно тот записывал свои эмоциональные впечатления и пространные рассуждения, не имеющие прямого отношения к делу. Лишь в одном месте сквозь мешанину пустяковых заметок просочился слабый намек на первые результаты эксперимента. Речь шла о пересадке мозжечковой ткани летучих мышей в организм ослепленных подопытных кроликов.
– Что за чушь, – вслух сказал Юранд и с раздражением оттолкнул дневник.
Знакомая тяжесть вошла в его тело, в суставах появился нервный зуд, а в затылке – пульсирующая тупая боль…
– Если Агесандр не вернется в лабораторию, я не смогу довести работу до конца.
Как и прежде, фраза не принесла облегчения. Вместо целебных свойств Юранд уловил в ней свойства приговора. Бессильно отдаваясь тоскливой волне, он со странным злорадством очень медленно повторил фразу и прибавил к ней несколько слов.
– И никто. Никогда. Не сможет, – произнес он, выделяя каждое слово.
Потом он долго молчал в своем кресле. Отчаяние и надежда боролись в нем, не давая покоя. Надежда и тоска. Томительное, злое предчувствие… и все-таки надежда.
Взорвалась телефонная трель. С минуту он обреченно слушал звонки, вынул из кармана часы, поднял крышку и быстро ощупал пальцами стрелки. Без четверти двенадцать… Дрожащей рукой поднял трубку.
Подробное сообщение доктора Фалька он выслушал, не проронив ни слова. Наконец доктор умолк. Молчал и Юранд, сердце его колотилось. Он судорожно перевел дыхание и прохрипел в трубку:
– Приготовьте там все, что нужно.
– Что приготовить? – не понял доктор.
– Не знаю. – Юранд откашлялся. – Операционную, инструменты и… смирительную рубашку, что ли.
– Может, лучше снотворное? – осторожно возразил доктор Фальк.
– Как хотите, – сказал Юранд. – Вам видней.
* * *Уже давно пропали звуки последних шагов за дверью. Клиника погрузилась в сон. Резким движением Агесандр откинул одеяло, опустил голые ступни на холодный пол и прислушался.
Снаружи в комнату сочился бледный свет. Агесандр осторожно подошел к окну. Знакомый запах цветущих деревьев показался таинственным и влажным. Далекое море мерцало слабыми бликами. Юноша сделал нетерпеливое движение – хотел выглянуть из окна и определить расстояние до земли, но тут же резко отпрянул, ударившись головой обо что-то твердое и невидимое. Шепотом чертыхнулся и кончиками пальцев прикоснулся к прозрачной поверхности.
«Совсем забыл… как это называется… как он говорил? Стекло?» Он попятился от окна и сел на кровати, прислушиваясь в сторону двери. Тело дрожало мелкой холодной дрожью. Он влез под одеяло, чтобы согреться, и пролежал так часа полтора. Потом встал, по-кошачьи приблизился к двери и затаил дыхание.
Сдерживая прыгающее сердце, Агесандр вышел в темный коридор и медленно двинулся вдоль стены. На ступенях главной лестницы услышал издалека тонкий храп спящего человека. «Ночной вахтер!» – догадался и замер. С трудом заставил себя сдвинуться с места и на ватных ногах стал приближаться к спящему.
Когда Агесандр нащупал ручку двери и бесшумно сдвинул в сторону тяжелый засов, человек перестал храпеть. Юноша похолодел.
– А? – сказал вахтер.
Агесандр замер, опасаясь вдохнуть. Наконец он услышал, как вахтер пробормотал что-то сонным голосом, встал из мягкого кресла и зашлепал в глубину фойе. Там загремели пружины старого дивана и вновь послышался храп.
Спустя минуту Агесандр торопливо шел по безлюдной улице мимо холодных домов. Он с удивлением видел далеко вверху над собой яркий круг и множество светящихся точек.
– Холодное солнце! – шептал он самому себе. – Холодные искры!
Когда край утреннего солнца появился над кромкой далеких гор, юноша радостно вскрикнул. Размахивая руками, побежал по мокрой траве. Он что-то кричал и обливался слезами.
Елена Карелина

г. Санкт-Петербург
Творчество автора отмечено более чем четырьмя десятками дипломов и грамот, в том числе специальным дипломом Международного Грушинского интернет-конкурса и дипломом Международного литературного конкурса «ВКР» «За яркость красок и импрессионизм в поэзии». За значительный вклад в развитие г. Санкт-Петербурга награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». За литературную деятельность в духе традиций русской культуры награждена звездой «Наслѣдiе» II степени. За вклад в укрепление национального самосознания и патриотизма награждена медалью «Георгиевская лента 250 лет». За вклад в развитие русской литературы награждена медалью «Александр Пушкин 220 лет», «Антон Чехов 160 лет», «Анна Ахматова 130 лет», «Сергей Есенин 125 лет».
Член МСП «Новый современник» и РСП. Участник более сорока коллективных сборников и альманахов. Автор книг: «Здесь и сейчас», «Жизнь под зонтиком», «Встречи», «Монологи», «Дорогой млечной».
Из интервью с автором:
– Не мыслю себя без стихов. Литературная героиня – личность самостоятельная и своевольная, но мы с ней ладим.
© Карелина Е., 2022
Летала
Летала во снах голубых, как топазы,и падала больно…Смеялась: мол, сглазилсосед.Он цыганских кровей, не иначе —недаром отводит черные очи,как будто бы прячетукраденное по своим бездонным карманам.Да, впрочем, все это неважно.Читала романы:Моэма и Пруса,Фейхтвангера и Мопассана…По лезвию бритвы,по самому краю вулкана,под пристальным оком соседей,а чаще – соседок.Куда там Рентгену! —так взгляд их пронзительно-меток…Что толку об этом…Судьба просто злая.Летает ли девочка нынче,кто знает…Путеводные гаечки
Время салатов и морса из клюквы (развесистой)…Часики тикали, тикали… Тося-разумница…В омуте тихо – уснули русалка и бестия,Ходит зазноба в ознобе Заречною улицей.Поезд догнать не проблема влюбленному Ванечке.Жизнь и любовь не всегда нам рисуют параболу.Я научилась бросать путеводные гаечки,Только дороги мои все устелены граблями.Буба Касторский легко разыграет Овечкина,Песню таксисту споет деревенская женщина…Время салатов и морса становится вечностью,Яркими алыми маками вечность расцвечена…Антракт
Антракт. Гримерка. Подправить макияж.ТипажИз года в год все тот же – травести.В честиУ режиссера и труппы.Как глупо —Не прима. Даже Коломбина —Мимо.Девчонка. Рыжие косицы и банты…А тыСчитаешь от аванса до получки деньгиИ делишьРубли на дни. На выдохи и вдохи.ЛохмотьяНеисполненных желаний, несыгранных ролейДля королейПерешиваешь в штучки «от кутюр».ГламурВполне, изысканна и модна.БомондуКажешься удачливой и близкой,Актриска.Ни в дом, ни в душу не пускаешь никого,А тоЕще узнают правду и поймут,Что тут,Среди руин разрушенной мечты, —ЦветыИз снов, исполненных надежды.НевеждыДумают: «Забавная левретка!»И «детка»Говорят тебе. ХохочешьИ хочешь,Чтобы провалился этот свет,БанкетИ эти маски, что вокруг шныряют.РоняютРозы из букетов лепестки.ТоскиГорчинка оттенит вино.ДавноНе плакала. Оплакано. Почти забыто.БитваПроиграна, но не закончена война.Одна.Звенит звонок. Быстрей припудрить носОт слез.– Твой выход, Рыжая!..Загнанно (тварь)
располовинив себя между здесь и тамвыскочит глазом кося очумелый зверьрыжая тварь получившая по мордамвыхаркнет матерно зубы своих потерьдраным хвостом заметая надежды следчерез поля долетит до лесов границкружится над головой прошлогодний снеглипнет на мокрые стрелы ее ресницщелкнет вослед капкан возведенный в законшубу бы бабе причмокнет мечтая дедрасполовинив себя между ты и онзагнанно дышит тварь в суете суетСуетится шальная надежда
Я попала в просак[3].Все веревочка вьется и вьется —Из моих ожиданий, желаний, из прочей пеньки…Время влито в винил баритоном забытого Отса,И роняют, роняют цветы на песок лепестки.Время влито в гранит стрекозы слюдяными следами,Что пропела в полете и канула камнем ко дну.Облетела листва в золотисто-багряном дурмане,Доезжачий-ноябрь на последние листья порскнул.Облетела листва, обнажая нажитые годы,Нажитого не жаль обменять на доверчивость грез.Но куда ни гляди, у причалов мои пароходы,И, ржавея, печально в тупик укатил паровоз.Но, куда ни гляди, суетится шальная надежда,Подтолкнув под бока утомленных печальных сестер.Я попала в просак.Это значит, что все, как и прежде, —Монологов моих полыхает багряный костер.Поэтка
Тряпку прополоскать, отжать, на швабру надеть – шурух-шурух по полу.
А че такого-то? Думаете, раз поэтка – так шелк-шифон, шляпы-ленты, каблуки-перчатки? Перчатки – они есть, да не те, ажурные, или тонкой кожи, а резиновые. Иначе пока с водой да с химией возишься – потом никаким кремом не спасешься, руки не восстановишь.
Шурух-шурух – поэтка, поэтка… Разве бывают поэтки-уборщицы? Хотя поэтки – они какие только не бывают! Кто-то – тетка со шваброй, а я вот одну знаю – самую настоящую-пренастоящую поэтку, так она вообще баба с веслом!
Это просто все ждут, что поэтки сродни феечкам. Этакие…
В хрустальных туфельках тридцать второго размера. А если у нее чуни на десять размеров больше, то от этого она что, уже не поэтка? Или максимум – андеграунд? В смысле, дитя подземелий, нимфа подвалов? Вы наши подвалы видели? Арочно, кафельно-мозаично, светло, тепло… Можно, конечно, наоборот – чердачно. Голуби курлычут, ветра музицируют, облака плывут, словно парусники. Сплошной мейнстрим. А поэтки, они всегда – мимо. Их нигде не ждут – ни в андергаунде, ни в мейнстриме. Ибо все места расписаны еще «до» и вперед «на». И локонов золотых нет. Есть что-то напоминающее гнездо.
Чье гнездо? А фиг его разберет. Может, воронье, а может, хомячковое. Пух да перья врастопырку. Платочком повязалась – вот и ладно, уже красавица. И, скажите на милость, куда носить эти платья? Да-да, вот эти: черное со шлейфом, красное с декольте до копчика, зеленое с брабантскими кружевами? Полы в них как мыть, спрашиваю? Шурух-шурух, прополоскать, отжать…
Врут всё люди. Что врут? А всё врут. Про поэток. Нет, наверное, есть и такие: утром проснется в спальне, залитой солнечным светом, откушает кофе и круассаны с видом на Эйфелеву башню, потом прогуляется по Монмартру, надышится-напитается, так сказать, высоким – и за перо – творить! Отчего ж не творить-то, когда вокруг сплошная богема!
А ты попробуй вот так: ни свет, ни заря – дзень-дзень-дзень – будильник колошматится. Ноги с кровати в шлепки – топ-топ – ванна – в зеркало не смотреть. Кофе варить некогда – порошочек «три в одном» кипяточком залить – размешать – проглотить. Одеться-закутаться. Здрасьте – дворнику. По потемкам – по гололеду – ввинтиться в тепло-удушливое метро, в сонно-жужжащую толпу.
Сверзиться на эскалаторе в подземелье. Занять выверенное годами место на перроне – точно посередине створок двери в вагон. Влететь – плюхнуться – уф. Сорок минут. Воет, тыгдымит – с промежутками на остановки. Спи, деточка, спи, маленькая.
А ежели не спится – то можно стишок сваять. Пока ваяешь – начало забудешь. Голова дырявая – ну да ничего, для этого в сумке есть блокнот и карандаш. Почему карандаш? А вы на автобусной остановке, при минус хотя бы 10, когда сумочка насквозь промерзла, попробуйте шариковой или гелевой написать. Хоть буковку. Что – не пишет? То-то, а целый стих? Ну, может, не целый, катрен там, или хотя бы одну строчку…
Кто говорит, что далеко от дома работать плохо, дорога долгая? Очень даже неплохо. Туда – стишок, оттуда – стишок.
А если при швабромахании на всякую ерунду не отвлекаться, то это ж сколько стишков-то в день будет?
Это вам не в модном салоне покупательниц окучивать, не роллы-суши крутить на потоке. Да, что ни говори – везде он, стервя-чий взгляд начальников. Здесь-то много ли насмотришь?
Шурух-шурух, прополоскать, отжать, шурух-шурух…
Это я на полставки здесь шурухаю. Вот закончу полы мыть, халат черный сниму – белый надену.
Заждались? А вот и я! Фея. Кому чего надобно, говорите. Подушку поправить. Чаю налить. Телефон на зарядку положить. Судно вынести. Ага, такое, настоящее, эмалированное судно. Ну нет у нас казенных памперсов! Только если кто со своими. А так – судно.
Вещь, причем вещь вечная. Вроде пирамидона. Что, не знаете такого? Правильно, теперь на упаковке пишут: «амидопирин». А его хоть как обзови – не зря ж говорят, что «доктора еще до Рождества Христова солдат пирамидоном кормили»[4].
Обед скоро привезут. Кому совсем никак – того покормить.
У меня таких двое. Они по очереди кушают. Нынче один первый, завтра – второй. Это чтобы не обидно было, что кто-то горячее ест, а кто-то – подостывшее.
Это я – подостывшая. Выгорело все. И угли едва теплятся.
А вы говорите – поэтка. Поэтка, она навсегда – поэтка. И когда в метро едет. И когда шваброй машет. И когда судно выносит. Все одно – поэтка. Горит и светится. А если нет – то кто она?
И нечего заниматься самоедством. Сейчас топлива подбросим. Полешек березовых да сосновых. Можно и спирта плеснуть.
Чистого, медицинского.
Ай, полыхнуло-то как славно! Вот тебе и свет, вот тебе и жар!
Давай, поворачивайся шустрее, феечка палатная! Кому телефон подать, кому компот налить, кому одеяло поправить. Судна у всех чистые? Тогда всем до завтра. Вон, уже и сменщица здесь.
Хоть и не поэтка, но тоже вполне себе волшебница.
Халат снять, на крючок повесить. Руки в пальтишко, ноги в ботинки, на голову шарф-снуд. Сну-у-уд! Что за слово такое, когда шарф этот как хомутом был, так хомутом и остался.
Да хоть какой хомут, а поэтка – птица вольная. И в подземельях, и в клетках – все одно. Нет ей ни сетей, ни стен, ни границ.
Топ-топ, прыг-прыг. Вот и перрон, вот и поезд. Народу – все домой едут. За поручень цап – и все. Хочешь – спи. Хочешь – стих сочиняй. Сорок минут. Тыгдым, тыгдым.
А вечер вновь никакой. Дневной маеты до краев – выплеснуть бы, да некуда. И нельзя ни расслабиться, ни отчаяться, ибо ты, поэтка, – палатная фея и по совместительству швабромаха.
…Свернись, деточка, ракушкой, развернись, деточка, розочкой. Очнись, деточка, звездочкой.
Мы ни судьбу, ни имена не выбирали
Мы ни судьбу, ни имена не выбирали.По жизни сдвоенной спиралиСкольжу,Или по шахматным клеткамЧерно-белым королевскою деткойБрожу.На перекрестках годов и улицИщу свои дни и свой город. УлиссБы меняПонял. Потерялась. И ужеПочти потеряла себя. Лже —ВременаДольше вечности на секунду одну.Нет ни земли, ни моря. Иду по днуСухому,По соли. Соль на губах и ресницах.Забыли ладони мои о синицах.И уходитПамять о небе, где журавль.Имя тебе – Каин. А я – Авель.Питный мед
Я выпишу – как вышью на шелках —Простой узор – словечко за словцо.Из чаши неба бурый волк лакалЛуну и звезды.После на крыльцоВзошел и сел у двери часовым:Мол, мил-царевич, мимо проезжай…И тот проехал.Лишь дурак блажил,Лез целоваться – к волку.Лапу жал.Орал частушки так, что тот краснел,Слагал – по Фрейду – сказки по ночам.Однажды утром выпал первый снег…Увидел дурня волк и – заскучал.С крыльца прыг-скок и со двора тикать.Иван за дверь – кто в тереме живет?А в терему развешаны шелка —Слова хмельные, словно питный мед…Сновидение
1
…Под волчьим солнцем…
Тристан КорбьерВолчье солнышко ночью светит.Тучи гонит пастух их, ветер.Звездный дождик стучит по крыше,А в подполье шастают мыши.И за стенкою возится кто-то,И кричат дико выпи в болоте.На дворе пес скулит и плачет.По плетню кикимора скачет,Скалит зубки свои кривые.Коль замок запереть забыли,То она навестит ваш дом.Кто-то прячется за валуном.Пахнет серой и мокрой шерстью.Бледный всадник по улицам ездит.На тропинках расселись жабы,Разлеглись ползучие гады,Желтым ядом они истекаютИ кого-то в ночи поджидают.И пускай я в надежной избушке,Надо ушки держать на макушке!Скрипнет дверь, иль окошко хлопнет,Домовой из-под печки охнет,И в стакане запляшет ложка,И с шипеньем проснется кошка,Вдруг услышав, как тараканыБьют в щелях в боевые тамтамы.Громок лапок паучьих топот,И звучит чей-то злобный хохот.Вижу я, как неведомо чья-тоС потолка тень сползает на полИ лиловым туманом струится,И под нею скрипят половицы.И в давно остывшей печиСаламандры пляшут в ночиИ так грустно что-то поют.У буфета гномы снуют.Синим светом своих мощейРазвалился в кресле Кощей.Семихвостую вижу лисицу,Семиглавого змея сестрицу.Волк горбатый сидит у кровати,Улыбается мне… О, хватит!Я напугана, я так боюсь,Это сон, и сейчас я проснусь!Ясный месяц на небе светит…Тучи гонит пастух их, ветер…Звездный дождик стучит по крыше……Я позвала тебя… Ты не слышал…2
…губы то и дело
Твердили: Никогда! Твердили: Навсегда!..
Тристан Корбьер– Я сплю, но сердце не спит…
Песнь Песней СоломоноваМужчина моей мечты, ты мне сегодня снился.Зачем просыпаюсь утром, мир без тебя пуст?Певчей была когда-то теперь безголосая птица,И срублен под самый корень сирени персидской куст.Была Суламифи слаще и Клеопатры краше,Алой хурмой касалась жадных твоих губ.Цветами граната и вишни, звездами ночи нашейВ страсти упала с неба в черный бездонный пруд.Сомкнулись безмолвные волны, и в их индиговом мракеЯ бледных увидела гули, пасущих серебряных рыб.И мимо промчалась старуха на рыжей большой собаке,Всех злобных фурий мамаша, хозяйка могильных плит.Я помню: была принцессой по имени НефертитиИ лотоса розовым светом на нильских плясала волнах.Ты мог меня взять и со мною забрать себе весь Египет,А ты нас обоих Сету на целую вечность отдал.Я в кобальтовых пирамидах осталась в рисунках на стенах,Но в алебастровых масках улыбок моих лишь тень.Когда птенец пеликана умрет голодною смертью —Исчезнут туманы кошмаров и снова настанет день.Была я царицей Савской, была я Семирамидой…Пурпурной бесстыжей розой в ладонях твоих лежу…Я – танец Шакти, который однажды Шива увидел,Я – жизнь твоя, но об этом тебе никогда не скажу.