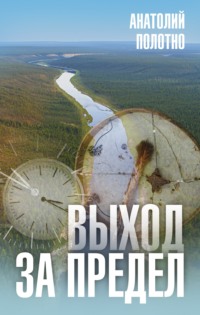Полная версия
Выход за предел
Но вскоре к братьям Голденбергам в мастерскую приходит тот же Кузя-Артист с футляром от скрипочки в руках и вываливает оттуда на стол столько рыжья, что братишки задернули шторы, потолковали о цене за лом и сговорились, что Артист придет через два дня за деньгами. Он ушел. А браться сели попить чайку из стаканов в серебряных подстаканниках. Дело в том, что один ювелирный гарнитур в виде роскошного колье с брюликами в карат, сапфирами с ноготь, изумрудами с голубиное яйцо, с рубинами, как звезды на кремлевских башнях – они мастерили сами для самой влиятельной дамы в Крыму – Руфины Натановны, жены «первого». Гольденберги сделали это ожерелье из материала заказчицы, и не одно, а два. Второе, по слухам, было отправлено в Москву. Пора настала переводить мужа в ЦК КПСС, – засиделся в провинции.
– Скок такого уровня мог совершить только очень талантливый Артист. Этого одаренного молодого человека ждет большое будущее – на Колыме, – сказал старший брат и добавил: – Но нам туда не надо.
– Да, таки нам туда не надо, – ответил младший.
И на следующий день старший уехал по делам в Симферополь. Там у него был один знакомый в «конторе глубокого бурения». В КГБ, значит, очень высокопоставленный дядька с большим козырьком на фуражке и кокардой. Этот дядька ходил в штатском и занимал солидный кабинет в известном здании. Старший Гольденберг посидел часа два в приемной этого кабинета, и его приняли. Он уселся сбоку, но напротив дядьки, и объяснил, что у него есть некая информация по громкому делу, но есть и просьба. Дядька был далеко не дурак, там таких не держат, и спросил с холодной улыбкой:
– Документы на выезд?
– Да, – ответил старший брат.
– На вас братом и с семьями?
– Да, – опять ответил старший.
– Значит, одиннадцать человек – дедушка-то ведь у вас умер недавно.
– Да, – снова ответил старший Гольденберг.
– Если информация окажется ценной, уматывайте, – брезгливо ответил козырек.
На следующий день, когда Артист пришел за деньгами в мастерскую братьев, его взяли. А еще через день братья Гольденберги с семьями отправились на ПМЖ в Израиль, они давно собирались, а тут вот и случай представился подходящий. Кузя-Артист наш никого не сдал, хотя работал однозначно не один – пальчиков много оставили. И судя по тому, кого он обокрал и засветил, ему припаяют на полную катушку…
– Слава, ты всегда был прекрасным рассказчиком, но этот Кузя-шмузя – Артист, Баянист, Гитарист – меня больше совершенно не интересует, – ответила Василина.
– Да, я вижу, – проговорил Слива.
– Меня интересует, почему ты не спрашиваешь про то, как прошло прослушивание в Москве? – спросила она.
– А че спрашивать, когда у тебя все на лице написано, прошло оно успешно, может быть, даже слишком успешно, – подытожил Слива, и в гримерку с шумом ввалились музыканты.
Весной Василина, как и обещала Сафрону Евдокимовичу, сдала все вступительные экзамены на пятерки и была зачислена на дневное отделение в институт имени Гнесиных. Она доработала сезон в ялтинском «Интуристе» и переехала в Москву к маме Даше.
Мама Даша была молодой красивой женщиной и к тому же – умной. Быстро разобравшись во всех прелестях социализма и в своих, она точно знала, куда ей идти и что делать. Она была почти неуязвима для внешней агрессивной среды – почти! Ее честная от природы душа не знала, вместе с ней, как обойти такие преграды, как предательство, измену, подлость в личной жизни. Она не знала, как переплыть это море греха и грязи под названием жизнь и не обрызгаться той грязью. Со всеми мужчинами, которые ей нравились, и с которыми свела ее судьба, были проблемы. И главная проблема была в том, что у нее были искренние надежды, а у них искренние обещания: она была доверчива и страстна. И даже, если ее избранники были не женаты и они пробовали пожить вместе, как бы гражданским браком, наступало довольно быстро разочарование.
Со временем она разобралась и в этом. Разочарование наступало от того, что каждый из них любит и чтит только себя. Поняв это, она немедленно успокоилась и, процитировав летучую в то время фразу Юрия Никулина из фильма «Бриллиантовая рука» – «Будем искать!», – полностью окунулась в работу. Но там ее тоже ждало разочарование. Она вдруг поняла, что нет никакой высшей партийной школы – ВПШ, где она преподавала политэкономию. Есть только ВПШик! Нет никаких факультетов «хозяйственных руководителей», «научного атеизма» и т. д. Кроме одного – факультета «научного карьеризма». Нет никакой науки под названием «политэкономия», а есть обычное засирание мозгов молодым коммунистам-карьеристам. Отсюда и кибернетику, зародившуюся в России, признали буржуазной псевдонаукой. И ЭВМ, построенную в Союзе, вместе с кибернетикой запретили. А то как же? Заложили в эту электронно-вычислительную машину вопросик: «Какова эффективность плановой экономики в СССР?» А та отвечает: «В перспективе – полный экономический крах». Ей второй вопросик: «Эффективность от придуманной классиками марксизма-ленинизма аксиомы „От каждого по способностям, каждому – по труду?“» Отвечает: «Полный п….ц! Тот же экономический крах!» Они ей, этой ЭВМ, третий вопросик: «Общественная собственность на средства производства?» Тут эта машина не то чтобы заматерилась: «Вы что там, ох. ли?» Тут эту ЭВМ вырвало рулонами бумаги в дырочках, и ее поломали, ее запретили.
– И правильно сделали, что запретили, иначе любой сопливый студентик поверг бы всю вашу советскую профессуру одним нажатием клавиши с ее помощью, – сказал ей, маме Даше, молодому ученому, преподавателю Высшей партийной школы, какой-то именно сопливый программист в Доме политпросвещения.
«А раз запретили веселье, запретят и печаль», – подумала мама Даша с долей снобизма.
С той поры она и стала циничной, дерзкой, хлесткой на язык и даже аполитичной. Она стала просто всепонимающей молодой и по-прежнему красивой женщиной. За предательство, подлость и измены она стала мстить своими изменами, нисколько не обращая внимания на мольбы и искренние обещания своих поклонников. Женщина же совершает грех для опыта, мимоходом, без оглядки? Так утверждают ваши моралисты, лицемеры и бездушные твари, «знатоки» женской натуры! Вот и получай, фашист, гранату.
В те годы вообще многие женщины стали свободней в отношениях с противоположным полом, может, оттого еще, что презервативы появились в аптеках? А может, и правда эмансипация привалила. Студенты ее любили за красоту, за веселый нрав, а главное, за то, что она никому не ставила неуд. Мама Даша их жалела и думала про себя, глядя на них: «Эх вы, мои бедные, милые бывшие комсомолочки. Чтобы подняться по этой карьерной лестнице, вам надо выше задирать юбки или вообще их скидывать почаще. А вам, молодые мои принципиальные коммунисты, чтобы преуспеть на этом поприще, надо просто стать „мальчиками для битья“, „мальчиками для питья“ (со старшими), „мальчиками на побегушках“ или, что еще лучше, „сладкими мальчиками“. И у вас все получится в вашей карьере, не беспокойтесь, будьте уверены!»
После переезда Василины жизнь мамы Даши кардинально изменилась. Нет, она любила свою дочь и Машулю свою любила искренне и всей душой. Но на расстоянии любовь всегда более безоблачна и радужна. Ее многолетний упорядоченный домашний уклад был нарушен. Ее стал раздражать этот долбаный диван, стоящий посредине большой комнаты, вечно разобранный. Она не знала, куда положить, куда деть всюду попадавшиеся ей вещи Василины. Раковина на кухне постоянно была забита грязной посудой. В белоснежной ее ванной грязным пятном красовалась какая-то не смытая пена. На ее расческе появились чужие волосы. Ну, пусть не чужие. А что, их нельзя стряхнуть в унитаз? И не то чтобы мама Даша любила следить за порядком в своей двухкомнатной квартире в Черемушках. Она просто всегда пребывала в состоянии ожидания – вдруг кто-то зайдет, неудобно как-то будет. Посуда не вымыта, в квартире бардак – некрасиво ведь?
Но основная неприятность была не в этом. Мама Даша за годы, проведенные на чужбине, так привыкла к сексуальным играм своим, к разнообразию этих игр, к тому возбуждению и радости, которую получала, что она просто не знала, что делать со всем этим, свалившимся на нее. И ее можно понять. Одинокая, красивая, молодая женщина. Живая ведь. А еще ее удивляла собственная дочь. Вроде нигде не училась, кроме школы, а все знает, понимает, на все вопросы у нее есть ответы. И вроде видит, что творится с матерью насквозь. Маме Даше никак не могло прийти в голову, что Василина уже выросла.
Иногда наши жизненные проблемы, возникающие из ниоткуда, сами же как-то решаются. На кафедру мамы Даши забежала ее давняя подруга. Ну, как – подруга? Подруг у нее никогда не было. Так, приятельница Нэлька.
– Привет, привет, что такая грустная?
Ну, мама Даша вкратце иносказательно и поделилась с ней, что, мол, есть один страстный поклонник, да негде.
– Тоже мне, нашла проблему. Проблема сегодня найти этого страстного поклонника. Поднимись ко мне на кафедру завтра и возьми ключи от нашей дачи в Переделкине. Мы там только летом, да на Новый год, – смеясь, скороговоркой проговорила Нэлька. Мама Даша посетила эту дачку с Эдуардом. Вроде ничего, и успокоилась.
А Василина наша вовсю уже училась, не замечая, на самом деле, мучений маминых. Ее определили, скорее всего, по протекции Сафрона Евдокимовича, к лучшему педагогу института по вокалу Фарштейн Софии Генриховне, не по годам подвижной, резкой, сварливой, невысокой женщине. Попробовали бы вы назвать ее Софьей Генриховной! Во-первых, тут же и забыли бы имя Софья – только София! Во-вторых, узнали бы, что такое настоящий скандал. София Генриховна была жуткой скандалисткой, гением скандала. Она скандалила абсолютно со всеми в институте, на улице, в метро, в автобусе, в троллейбусе, в трамвае – она скандалила везде, но как-то по-доброму, и оттого даже незнакомые с ней люди не обращали на эти скандалы никакого внимания. Ну, пусть пошумит бабушка, раз хочется. А все знакомые в институте знали Фарштейн и любили. Она шумела на всех без разбора, на всех, кроме своих учеников, которых отбирала только лично сама. Учеников своих она обожала, как родных детей, которых у нее не было. Она окружала их такой материнской заботой, что Василине поначалу было как-то неловко. Но когда однажды София Генриховна спросила у нее: «А что Василина любит из еды?», Василина, не задумываясь, ответила: «Ватрушки с творогом». И та на следующий день сама испекла и принесла в институт точно такие же ватрушки, какие пекла Мамашуля.
Они очень подружились. Учиться Василине было интересно, но довольно трудно по особым дисциплинам. Сафрона Евдокимовича, о котором она только и думала, в институте не видела ни разу. Сидит она на поточной лекции и думает о нем, ничего не слушая, на перемене бежит к телефону-автомату, бросает в него две копейки или десятчик, если нету двух, набирает его номер и ждет ответа.
– Алло, вас слушают, – раздается его твердый голос.
– Это я, не помешала? – спрашивает она.
– Василина, не хулигань! Иначе я прикажу убрать из института все телефоны-автоматы. В 19 часов в Черемушках, на том же месте, – говорит его строгий баритон. – А я приеду туда в 17:30 и тоже буду ждать, а пока буду бешено работать, чтобы успеть все сделать до этого времени. Пока!
– Пока, – отвечает Василина уже не в трубку и бежит на следующую лекцию.
Всю пару до конца ей не высидеть. После первых сорока пяти минут она сгребает с парты все в свою любимую сумку-рюкзак и идет к выходу. И там впервые за время пребывания в институте встречает Елену Прекрасную. Они не виделись с новогодних праздников в Ялте почти год. Елена предстала перед Василиной в очень элегантном брючном костюме бежевого цвета. Шелковая блузка ее была застегнута до предела низкой пуговицей, и из-под нее еле-еле вырисовывалось белое ажурное белье. Она была в туфлях на высоких каблуках, что придавало ее и без того стройной фигуре еще большую стройность. На плече ее, на длинном ремешке, беззаботно красовалась замшевая, в тон костюма, сумочка с красивой серебряной застежкой. Первое, что подумала Василина, увидев Елену: «Пора менять гардероб!» Она по-прежнему ходила в джинсах, в кроссовках и в кожаной куртке с крупной молнией, а под ней была белая майка с Миком Джаггером из роллингов.
– Привет, Василина, как ты похорошела! – произнесла Елена, оглядывая ту с ног до головы.
Василина приподняла подбородок и, думая, что над ней насмехаются из-за ее наряда, хотела ответить встречной колкостью, но, не увидев в глазах соперницы ни злобы, ни ревности, а только искреннюю радость от встречи, ответила:
– Привет, Елена, рада видеть тебя.
– А я рада, что ты поступила и у вас все хорошо – Сафрон Евдокимович говорил, – произнесла Елена.
Василину эти слова привели в замешательство. Она знала, что они с Еленой вроде расстались, но то, что они говорят где-то о ней?
– Ну, как он тебе? – неожиданно спросила Елена.
Это привело Василину в еще большее замешательство, но она ответила:
– Нормально.
– Нормально – и все? – улыбнувшись, спросила Елена Прекрасная. – Да он потрясающий, бесподобный, невероятно интересный, о том я даже не говорю. Он настоящий гуру. Он уводит в такие миры, о которых простые люди и представления не имеют. Он знает то, о чем другие и не догадываются, не подозревают. Он дарит счастье, он производит счастье. Он аккумулирует его вокруг себя, собирает. Он повелитель счастья и его раб.
На лице Елены не было ни тени сумасшествия, ни дурацкого фанатичного экстаза религиозных клириков и всяких других фанатиков. Василина совсем перестала понимать происходящее и стояла не моргая и уставившись на Елену. Та, видимо, поняв состояние девушки, с хорошей улыбкой и теплотой в голосе опять продолжила:
– Успокойся, Василина, я не выжившая из ума от ревности и бессилия брошенная женщина. Нет, я счастлива, и все хорошо у меня. И у тебя тоже все хорошо будет, даже лучше, успокойся.
– У тебя ведь нет подруг? – вдруг резко сменила тему разговора Елена и взяла Василину за руку.
– Нет, – ответила тихо оглушенная девушка.
Елена достала из сумочки визитную карточку и, протянув ее Василине, произнесла:
– И у меня нет. А без близких, понимающих людей рядом одиноко и трудно приходится порой. Позвони мне как-нибудь, поговорим обо всем. А сейчас я на «спецуху» опаздываю, извини.
И Елена, приветливо улыбнувшись, пошла к преподавателю совершенствоваться в игре на фортепьяно. А Василина вышла из института, дошла до первой попавшейся скамеечки и рухнула на нее, ничего не понимая и от этого чувствуя себя круглой идиоткой. Она была юной, совершенно неопытной девушкой, а тут бы и опытная в растерянности грохнулась на эту скамейку.
Василина очень переживала после «прослушивания», что ее роман с Сафроном Евдокимовичем закончится, так сказать, не начавшись. Но после экзаменов, за которыми он, очевидно, наблюдал, Сафрон Евдокимович встретил ее у выхода из института, вежливо поздравил, усадил в свою крутую машину и отвез в ресторан гостиницы «Метрополь», а там закатил такой банкет по случаю поступления! Роскошный стол, уставленный цветами, шампанским, цыгане, которые весь вечер пели у их стола, а начали «Ай, да Василина, ай, да красна девица…» И Василина позже пела с ними: «Ты судьба моя косолапая…» А потом у них была волшебная, сказочная ночь на Кутузовском. Все было так невероятно прекрасно, что Василина забыла обо всем на свете – даже маме Даше позвонить.
Через день, забрав уже в Черемушках, Сафрон Евдокимович отвез ее во Внуково, достав где-то очень дефицитные билеты на самолет до Симферополя и, провожая ее, проговорил: «Тебе нужно прийти в себя после экзаменов, девочка моя, хорошо отдохнуть, а осенью приступить к занятиям. Возвращайся загорелой, веселой, красивой. До осени, Василинка!»
Она пошла на посадку, а он, помахав рукой, направился к машине.
До осени они не виделись. Она вся извелась и измаялась в ожидании и в тревожных думах: «А вдруг я ему больше не нужна, неинтересна?» Странно, но за все это время она ни разу не вспомнила и не подумала про Елену Прекрасную, будто ее и не было вовсе. А она вот была и есть, и нисколько не страдает от расставания с ним. Василина уже два месяца пребывала в абсолютном счастье, регулярно встречаясь с Сафроном Евдокимовичем. А когда она звонила маме Даше и говорила, что остается ночевать в общаге, та ей весело, но строго отвечала: «Васька, да знаю я этих подруг твоих, с колючими усищами, аспидов-аистов этих. Помни о подарочках от них. Они приносят минутное счастье и пожизненные обязанности».
– Мама, я все помню, не беспокойся, я не маленькая уже, пока, – отвечала Василина и падала в объятия Сафрона Евдокимовича, без ума от свалившегося на нее счастья. Зная, а теперь уж наверняка, что он только – ее, а она только – его.
Глава 12. Клеопатра
После того, как Василина прошла «тестирование», Сафрон просто обязан был объясниться с Еленой как порядочный и честный человек. А он был честным и порядочным. Нет, он, на самом деле, относился к своим подругам неформально, не потребительски, а искренне. Он и влюблялся в них по-настоящему, но немного не до конца, вот как в Елену. Он снял ей квартиру в Ясенево с мебелью и пианино для занятий. Помогал, как говорится, материально и морально. Заботился о ней, дарил красивые вещи, ну и все такое. А тут вот пришла пора расстаться. Он уже проходил через это и был готов ко всем вариациям разлуки.
Но с Еленой Прекрасной расставание получилось не как с другими. Когда он деликатно объяснил ей причину их встречи, сидя в ресторане за столиком, Елена спокойно поглядела на него и спросила: «Это Василина?» Сафрон немного помялся и ответил: «Да».
– Очень хорошая девочка, она мне нравится, Сафрон, пусть у вас все будет хорошо. А сейчас, извини, мне нужно выйти, – проговорила Елена, встала, взяла сумочку и вышла.
Обратно она не вернулась, а когда Сафрон уже позже, вечером, дозвонился до нее и пожурил:
– Разве так можно, Елена, я же волнуюсь, куда ты делась?
– Не волнуйся, Сафрон, дорогой, все в порядке, – ответила Елена и положила трубку.
Сафрон, конечно, не успокоился тут же, но полегчало сразу. Позже прилетела на вступительные экзамены Василина, сдала все на отлично, и они закатили праздничек в «Метрополе», в любимом зале Иосифа Виссарионовича Сталина, где тот зажигал когда-то с Мао Цзэдуном. Потом Сафрон проводил Василину в Симферополь и занялся делами.
Вот тут-то и настигла его буря! Сафрон Опетов уже полтора года готовил выставку импрессионистов в Москве совместно с Министерством культуры СССР, отделом культуры ЦК КПСС, РАХ, горкомом партии, КГБ и с рядом других заинтересованных организаций. И через неделю эта выставка должна была торжественно открыться в ЦДХ на Крымском Валу. Он бегал целую неделю как савраска, решая какие-то вопросы и с нетерпением ожидая встречи со своими любимцами: Винсентом Ван Гогом, Камилем Писарро, Полем Сезанном, Эдгаром Дега, Клодом Моне, Пьером Огюстом Ренуаром, Анри Руссо и др.
И вот открытие этой эпохальной выставки вселенского масштаба состоялось. Понаехало много партийных и государственных деятелей, для проформы, так сказать, типа: «Мы открыты, все флаги в гости к нам!»
Все было как всегда – запротоколировано, зарегламентировано, помпезно, затянуто, скучно. Но это не главное. Главное – выставка открылась, работы удивительных живописцев в совке, и люди смогут увидеть это чудо своими глазами. Народ и повалил смотреть. Да так, что очереди перед Выставочным залом выстроились длиннее, чем в Мавзолей Ленина – и даже в ГУМ, за дефицитом.
Сафрон водил экскурсии для самых-самых по этой замечательной выставке, рассказывал, объяснял, показывал, сравнивал, и все из-за любви к искусству – бесплатно, значит. И вот к концу первой недели, вечером, почти перед закрытием, он увидел девушку перед картиной Ван Гога «Ночное кафе в Арле». Даже не девушку, а молодую красивую женщину, может, моложе его лет на пять-семь. Сказать о ней красивая – значит, ничего не сказать. Она была прекрасна. Густые темно-каштановые волосы обрамляли невероятной красоты профиль лица и спадали пушистой шалью на плечи и спину, изгиб которой сливался на поясницу, на ягодицы, бедра и икры стройных ног. Очень красивое облегающее платье лишь подчеркивало ее безукоризненные формы. Упругая грудь поражала пропорциональностью. А высокие каблуки удлиняли и без того стройные длинные ноги. Сафрон был поражен ее совершенной красотой.
«Вот такою, должно быть, была Клеопатра, и из-за нее мужчины-воины прощались с жизнью, ничуть не жалея об этом», – подумал Сафрон и сглотнул слюну.
Хотя правильнее было бы сравнить эту девушку с Софи Лорен или с Джиной Лоллобриджидой, по крайней мере, ее совершенные формы. Сафрон как загипнотизированный подошел к ней, ничего не говоря. Она, не глядя на него, вдруг проговорила: «Вы, наверное, организатор выставки или какой-нибудь куратор от Минкульта. Посмотрите на картину. Подобные шедевры должны выставляться в небольших уютных залах, где ими можно любоваться часами, сидя за столиком или на скамье».
– Но в Москве нет подобных залов, – ответил Сафрон.
– А жаль, что нет. Эти работы писались именно для таких маленьких заведений. Они и требуют этой атмосферы, им здесь неуютно и не место. Бесконечные людские потоки разрушают их ауру, ее невозможно почувствовать, коснуться, насладиться ею. А ведь эта аура – основная часть этих картин, не так ли? – произнесла девушка и повернулась к Сафрону лицом.
И Сафрон впервые за долгие годы общения с женщинами потерял свое первенство, потерял превосходство. На него смотрело женское лицо восхитительной красоты с очень умными карими глазами.
– Аура, да, конечно, – произнес он и замолчал, безропотно глядя на нее.
– А как вы вообще относитесь к импрессионистам? – отклонившись назад, как бы оценивая его, спросила девушка.
– Я хорошо отношусь, – проговорил, все так же не отводя глаз от ее лица, Сафрон.
– Я раньше тоже хорошо относилась, пока видела только репродукции с картин, а вот сегодня мое мнение о них изменилось, – произнесла женщина-девушка и повернулась к Ван Гогу. – Мне кажется, в них страсти недостаточно, нашей русской страсти, энергии нашей, безрассудства. Масштаба не хватает, горя нашего настоящего не хватает, счастья безмерного, боли человеческой, любви безграничной, пылкой, жертвенной, жизни не хватает: все красиво, ровно устроено.
И снова повернулась лицом к Сафрону.
– Да, но игра света, тени, тон… – начал было Сафрон.
– Что касается цвета, так наш лубок перебьет их всех одной картинкой с ярмарки, а светотень – да, это новшество, без сомнения, – парировала незнакомка. – Мне кажется, наши живописцы, да те же передвижники, сильно замалчиваются на Западе. А импрессионистов раскрутили до небес и сделали из них торговый бренд – хорошее вложение капитала, и, главное, надежное: цена только растет. А вы как думаете?
– Вы не поверите. Но я думаю так же, как вы, – ответил Сафрон и впервые улыбнулся ей. – Простите за каламбур и подхалимство. Я что-то, глядя на вас, совсем думать разучился, а уж говорить и подавно.
– Меня зовут Светлана. А вас? – спросила Светлана и тоже улыбнулась.
– Меня – Сафрон.
– Иностранное или древнерусское? – снова спросила Светлана.
– Скорее второе, но я сам толком не знаю, надо будет порыться в библиотеке. А вы, случайно, не преподаете в ВПШ – Высшей партийной школе? У меня ученица есть, так ее мама преподает в ВПШ, – зачем-то спросил Сафрон и снова улыбнулся.
– Нет, я совсем из другой оперы, – спокойно ответила Светлана и опять повернулась к Ван Гогу.
– Говорят, он ухо себе отрезал из-за любимой, а на автопортрете будто зуб у него болит, вот я о чем. А ВПШ здесь при чем? – спросила девушка Светлана.
– Да так. Уж больно у вас мнение резкое о бедолагах-импрессионистах, очень патриотичное, что ли, мнение, конкретное, безапелляционное – в ВПШ так и учат, – как можно миролюбивее произнес Сафрон.
– У меня свое мнение по всему, а чему там учат в ВПШ, мне неизвестно, любую власть я презираю, за художников наших обидно. Это я вам честно говорю, – ответила Светлана, не глядя на Сафрона.
Они помолчали. Она снова повернулась к нему и просто спросила: «Ну и почему вы меня никуда не зовете, и повод подходящий есть – зал закрывается…» Сафрон чуть рот не открыл от удивления, но тут же нашелся и произнес: «Я приглашаю вас в „Метрополь“, там Иосиф Виссарионович с Мао Цзэдуном встречались когда-то».
– Ну, Сталин и Мао – одного пола, а мы разного, там таких пускают? – ответила с ухмылкой Светлана.
– Я думаю, если они вас увидят, то сделают исключение, я бы сделал, – сказал Сафрон и только сейчас заметил, что вокруг них собралось много зевак, в том числе из работников зала.
– Все, товарищи, представление окончено, продолжайте осмотр экспозиции, пока зал не закрыли. Пойдемте, Светлана, – проговорил громко Сафрон и подставил калачиком руку Светлане. Она взяла его под руку, и они направились к выходу. Так они и вышли на улицу, а когда подошли к сафроновской машине, Светлана без особого восторга произнесла: