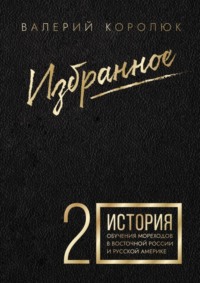Полная версия
Избранное-1. Итого: из разных книг за четверть века
Ночной туман
Иди сюда.Ты – ничего не помнишьИ ничего не хочешь повторить?..В слепом окне – обугленная полночьДавно перегасила фонари.Пей улицу, как дикую отраву —Под вой гудков, прохладу от реки.Беру ТебяОтныне и по праву,Переплавляя эту ночь в стихи.Сюда иди,Забудь, чего не помнишь.Сюда, ко мне, сейчас,Иди скорей…Пока дымится, остывая, полночьОкалиною черных фонарей.Ничто еще не начато, не спето,Еще качает темень фонари,Но вдалеке – сигнальною ракетой —Растет полоска утренней зари.Молчи, молчи.Мы ничего не вспомнимИ ничего не станем повторять…Для нас потом,В окне, тумана полном,Проклюнется дрожащая заря.12.03.1997.«В шесть утра разлаялись собаки…»
В шесть утра разлаялись собаки,Заспанный трамвай продребезжал.Что любовь – игрушка, это – враки,Это кто-то – глупое сказал.Это кто-то, сам себе не веря,Доказать пытался чепуху!На рассвет распахнутою дверьюОтмахну словесную труху,Сердце захлебнется гулкой кровью,Жарко закружится голова.К твоему склонившись изголовью,Прошепчузабытые слова…Разговор с душою по-душам
…Скок желудей по крыше жестяной,огонь в печи и влажный шелест ночи.Я чувствую: сейчас тебе не очень-то хочется беседовать со мной,но – потерпи, помедли, притворясь,перебори глухое раздраженье.Вглядись в окно, там – грозных туч круженье,теней и тьмы причудливая вязь.Вослед все утихающей грозе,там – сада растревоженного ропот…Со мной поверить в лучшее попробуй,увидеть, угадать его везде.Мы будем жить с тобою – до ста лет,не уставая, даже не старея,ведь в этой бесконечной лотереемы выбрали – единственный билет,чего ж тебе еще?..15.08.1987.Из книги
«Истории & фантазии», 2004 г.
По образу и подобию
Василь Максимыч был сыт. Он так прямо и заявил об этом: «Ну, я сыт!» и откинулся на спинку стула.
Жена его, Вера Михайловна, тут же засуетилась опять, торопливо запричитала:
– Васенька, а как же колбаска копченая, вон ведь еще сколько осталось?! И холодца почти не тронул… А может – борща чуток подлить? Там, в кастрюльке, еще есть.
Василь Максимыч прикрыл затухающие глаза, прислушался к своему внутреннему миру, подумал немного, а потом подытожил:
– Нет, сыт – значит сыт. Хватит пока.
И пошутил:
– А то лопну еще, хе-хе…
Тем временем вернулся с улицы Валерка, наследник. Звякнув тяжелой цепью, он прошмыгнул мимо отца и сразу заперся в своей комнате.
Василь Максимыч включил телевизор и пересел в широкое, мягкое кресло – для удобства. Передавали «Международную панораму».
– Веруня, глянь, как капиталисты-то разлагаются! – позвал Василь Максимыч жену и прибавил задумчиво: – Не то, что некоторые…
Вера Михайловна не откликнулась, скорее всего – просто не слышала: она громыхала на кухне посудой, в кране гудела вода.
Настроение у Василь Максимыча образовалось вполне благодушное, как всегда после сытной и обильной еды. Хотелось с кем-нибудь поболтать о возвышенном, а спать – почти не хотелось.
Василь Максимыч окликнул Валерку:
– Эй, сын, чем занят?
– Уроки делаю, – отозвался из-за стенки сын.
– Уроки – это хорошо, – одобрил Василь Максимыч и задал наследнику наводящий вопрос:
– И какие же, если не секрет, уроки?
– Обществоведение.
Почти сразу из-за двери высунулась светлая Валеркина голова и заулыбалась:
– Хорошее, батя, время будет – коммунизм!..
– Да-а… – Василь Максимыч, отвлекшись от телевизора, расслабился.
– Батя, а там все-все будет? – не слишком доверчиво вопросил наследник.
– Конечно, все. И даже больше, чего душа пожелает. Каждому – по потребностям, не только одним бюрократам. Для этого и трудимся, для этого живем – себя не щадим. Все будет, не боись!
– Тут, в учебнике, еще написано, что от каждого – по способностям, это как?
– Как, как… сколько унести сможешь, столько и бери, вот и все способности, – пошутил Василь Максимыч и, переключив телевизор на другую программу, промыслил:
– Может, ты-то вот захватишь это время… Попомни тогда отца, который приближал его к тебе, как мог, строил для тебя, дурака, светлое будущее. Поживи уж тогда и за меня, всласть.
Из кухни, вытирая о фартук распаренные руки, появилась жена:
– Ну чему ты, отец, ребенка учишь? Вот возьмет еще да и ляпнет в школе кому-нибудь что ты ему тут наговорил – оправдывайся потом. И так от этого рока покою нет, железяками весь обвешался, браслетами всякими, – соседям в глаза посмотреть стыдно.
– А причем тут браслеты? – сухо поинтересовался наследник.
Но мать не стала ему отвечать, добавила только в спину отцу:
– Тянет тебя кто за язык, что ли?
– Ничего, не ляпнет, – Василь Максимыч повернулся опять к Валерке, будто рассматривая. – Он у нас сообразительный, знает, кому что говорить можно… Разбирается, что к чему, весь в меня. Правда, сын?
– Правда, – буркнул в ответ сын и опять скрылся за дверью.
Василь Максимыч помолчал, улыбаясь, и наставительно разъяснил жене:
– Все эти роки да железяки – чепуха, мать. Камуфляж. Мы тоже в свое время под музыку балдели, клешами пыль мели… Не это главное, перебесится. Воспитание, понимаешь, штука тонкая, в этом деле тоже метода нужна. Главное – чтобы таким же, как мы, вырос. Чтобы человеком стал, настоящим: знал свое дело и помалкивал, когда не надо. А все эти сказки, что им сейчас в голову вбивают, критически усваивал, с поправкой на жизнь, тэ-скать. В жизни, сама знаешь, по учебникам не проживешь. Жизнь, она – куда сложней и сама все по своим местам расставит.
Вера Михайловна, по обыкновению, спорить не стала. Взялась вместо этого белье переглаживать. А Василь Максимыч опять уставился в телевизор.
Показывали теперь грустную передачу «Человек и закон». Василь Максимыч хотел было ее выключить, но передумал, потому что заговорили как раз о нелюбимых им бюрократах, оголтело вставляющих палки движению вперед и прочей перестройке.
Валерка в своей комнате, напялив на стриженую голову большие наушники, готовил уроки на завтра. Мать гладила у окна.
Время тянулось размеренно и привычно.
Общее молчание только раз еще нарушил негромкий вздох:
– Эх-х-ма, коммунизм… Житуха!.. Нам бы туда… Уж я бы своего не упустил. Сил бы не пожалел: прошелся бы по их магазинчикам, поворошил бы под прилавочками, понавел бы там порядок! Жаль только – не будет его никогда, с этими бюрократами… Во всяком случае, пока мы живы.
И Василь Максимыч философически замолчал, посапывая.
1992.Слишком далёкое
С этим куском дерева Сам возился особенно долго: скребком скоблил, ковырял кремневым ножом, медвежьим когтем – всем, что под руку попадется, даже зубами его выкусывал. Но все получалось совсем не так, как нужно.
Сам взвизгивал и постанывал от обиды: Великая Мать не хотела показать себя. Вместо нее выходила почему-то старуха Аху – добрая и заботливая, поднявшая на ноги не одного детеныша, но с возрастом все больше толстеющая, удушливо кряхтящая и ворчливая. Великая Мать – не такая. Она – большая, и грозная, и упрямая, и красивая. Куда до нее старухе Аху! В огорчении от неудачи Сам наконец стукнул по деревяшке кулаком и с силой отшвырнул ее в дальний угол пещеры – женщинам на растопку.
Когда он взял новое дерево – мягкое и податливое – Великая мать сжалилась все-таки над старательным Самом и, проступив из глубины древесины, уставилась на него своим гордым взглядом. Сам задрожал от нетерпения: скорее, скорей расковырять и зачистить дерево, пока она не исчезла.
Сам очень увлекся этим, так увлекся, что совсем позабыл о главном. О том, для чего был оставлен ушедшими на охоту: охранять женщин с детенышами и защищать вход в новую пещеру. Мыслями он был далеко отсюда, слишком далеко…
Потому-то и не учуял Сам кислого запаха Чужих, не заметил их осторожных крадущихся шагов. Не услышал даже предупреждающе прошуршавший вниз по склону камешек. И не почувствовал азартно вырезавший из большого полена женскую фигурку Сам тяжелого, ненавидящего удара в затылок – последнего из полученных им в этой жизни.
Подогнувшийся вдруг, скрюченно перегородивший на время собою пещерный лаз, не увидел он больше уже ничего: ни того, как взметнуло искры в костре и вспыхнуло отпнутое врагами дерево, из которого чуть было не вышла Великая Мать, ни того, что делали с детенышами, женщинами и старухами, доверенными ему, хмельные от ярости и сильные воины соседнего племени.
* * *Доклад был скучным, буднично скучным. Очередной отчет об очередных раскопках очередной первобытной стоянки.
Все как всегда: зола костра, скребки да кости… Количество, принадлежность, датировка… Рутина.
Полупустой дремлющий зал, привычно отсиживавший положенное, не заинтересовало ни обилие женских и детских останков при полном отсутствии мужских, ни обнаруженная у северного свода пещеры очередная «палеолитическая Венера» – изумительная по мастерству (хотя и недоработанная) деревянная женская статуэтка. Сколько уже таких «изумительных» находок пылится в запасниках различных музеев!
Никак не отреагировал зал и на заявление докладчика о том, что эта окаменелая деревяшка изображает, по всей вероятности, богиню плодородия, несомненным свидетельством чего являются ее тучные формы и доброе, открытое миру лицо.
Лицо старой Аху.
1982.Это – табу!
– Ты еще молод, Пилот, – голос Капитана звучал ровно и устало. – Молод и потому слишком горяч. Ну подумай хорошенько, что ты предлагаешь! Любая наша помощь этим людям – вмешательство в их развитие. А это… Пойми, мальчик, каждый запрет, каждое табу возникает не на пустом месте, не по прихоти какой-нибудь, нет. За ним – долгий и трудный опыт, потери, расчеты на будущее. Именно потому нарушить принцип невмешательства – все равно, что совершить преступление.
– Но ведь времена меняются, Капитан! То, что было разумным и правильным вчера, может только мешать сегодня. Ведь на самом-то деле я и не предлагаю ничего нарушать! Я все рассчитал, ошибки не будет.
Пилот нервничал, и голос его просительно подрагивал поначалу:
– Ничего такого мы не дадим им и ничему особенному учить их не станем. Мы только чуть-чуть передвинем стрелки на их «часах»… Я многое передумал после вчерашнего разговора и теперь предлагаю вот что. Мы же в любом случае оставим на орбите свой спутник – для наблюдения? Так давайте вмонтируем в него и магнитную ловушку, много места она не займет. Спутник станет задерживать все железные метеориты, которые принесет космос. Из них потом можно формировать блоки и автоматически отстреливать их в заданную точку – где-нибудь поближе к Селению. Собрать такую систему совсем не сложно: с парой киберов я берусь управиться за ночь, если, конечно, мне не будут мешать… Мы сразу, одним махом решим две проблемы: и Принцип, по существу, не нарушим – получится почти естественный приток на планету метеоритного железа, – и аборигенам поможем: из своего каменного века они сразу шагнут в железный. Вы только поймите, что это будет значить для их младенческой цивилизации!
Разволновавшись, Пилот вскочил с кресла. Высокая фигура его стала казаться еще выше на фоне зеленоватого вогнутого диска планеты, мерцавшего на обзорном экране.
– На мой взгляд, это самый грамотный выход в такой ситуации. У нас просят помощи, и мы не имеем права не помочь. Совсем ничего не преступать мы не можем. Но так, по крайней мере, наша совесть останется чистой: мы сделали что могли. В конце концов, что такое один-другой лишний метеорит, незапланированно упавший на планету? Уверен, дома нас поймут. Ведь космосу так нужны новые цивилизации – нас слишком мало… Решайтесь, Капитан, время уходит!
– Может быть, ты в чем-то и прав, однако не по душе мне вся эта затея… – начал было Капитан, но потом замолчал ненадолго и, неожиданно для Пилота, изготовившегося уже к новой атаке, закончил: – Добро! Будь что будет. Старт назначен на завтра, времени действительно мало. Так что действуй!
Расчеты Пилота были верными. И результат сулили быстрый… Сравнительно быстрый. Но Космос все решает по-своему, не считаясь с нашими планами. Когда корабль был уже далеко, так далеко, что, даже узнав о свершившемся, никто ничего не смог бы исправить, именно эта планетная система встретила на своем бесконечном пути в пространстве невесть откуда взявшееся облако космической пыли. Дело обычное. И все было бы ничего, но основную массу облака составляли частицы железа…
* * *– Ты еще очень мал, внук, но я не могу ждать, когда ты подрастешь. Предки зовут меня – не знаю, надолго ли хватит у Богов терпения, чтобы мешать им. И пока я не ушел навсегда, я должен передать тебе свою Память… Пока еще могу это сделать.
Голос у Старика был мягким и ровным, а рука его, лежащая на плече мальчика, – теплой и ласковой.
– Слушай же… Боги иногда могут казаться добрыми, но под этой добротой все равно скрываются зло и коварство. Помни об этом и никогда не доверяй им! Я специально привел тебя на это место – чтобы лучше запомнилось… Когда-то давно здесь жили люди – сильное и богатое племя. Они не кочевали, как мы, в поисках пищи, а жили в Селении. Почва была добра к ним, ни в чем не отказывала, кормила и согревала их. Но людям почему-то всегда хочется большего, чем то, что они имеют: самой вкусной еды, самых крепких ножей и еще многого… Люди, жившие здесь, ничем не отличались от прочих. Но хорошая еда и теплое жилье сделали их дерзкими. Неблагодарные, они предали свою Почву и призвали на помощь далеких Богов! Боги – пришли. И подарили им черный камень, и научили их плавить из этого камня железо, прочнее и тверже которого нет ничего на свете… Потом Боги вернулись на звезды, а людям захотелось много-много черных камней, ведь из них получались такие острые и крепкие наконечники для стрел и все остальное. И люди, жившие здесь, стали вновь и вновь обращаться за помощью к Богам, пока те, забавляясь, не принялись швырять со своих звезд все новые и новые черные камни – один за другим. Наверное, им нравилось смотреть, как вздрагивает внизу и стонет от каждого удара наша Почва. Боги так разыгрались, что думать забыли про людей из Селения. И несколько лет все бросали и бросали свои черные камни, пока им не надоела и эта игра… С тех самых пор здесь, где раньше жило могучее, но дерзкое и жадное племя, высится эта Гора, а люди обходят это место стороной…
Старик замолчал, о чем-то раздумывая. Тихо и пустынно было вокруг. Только высокая звезда равнодушно глядела вниз, на темную и такую просторную планету, на холодную равнину под собой, на тяжелый конус все растущей в небеса черной Горы да на двух маленьких, почти незаметных сверху, утомленных долгим переходом человечков – у самого ее подножья…
– А как же Боги, дедушка, они так и не помогли разве людям?
Мальчику сказка понравилась, и он хотел знать, что было дальше.
– Помощи от Богов никогда не жди, внук! Дело их – Зло, – старик прижал мальчика к себе, голос его стал крепче и яростней, – только на Род свой надежда у человека, только родная Почва и добра к нему. Лишь то, что дарит она, – на пользу людям. Навек запомни, мой внук, и внукам своим передай: никогда… ничего… не проси у Богов. Это – табу!
1985.«Мы, струльдбруги…»
«Скок желудей по крыше жестяной, огонь в печи и влажный шелест ночи. Я чувствую: сейчас тебе не очень-то хочется беседовать со мной. Но потерпи, помедли, притворясь, перебори глухое раздраженье. Вглядись в окно, там – грозных туч круженье, теней и тьмы причудливая вязь. Вослед все утихающей грозе, там – сада растревоженного ропот… Со мной поверить в лучшее попробуй, увидеть, угадать его везде. Мы будем жить с тобою – до ста лет! Не уставая, даже не старея, ведь в этой бесконечной лотерее мы выбрали – единственный билет. Чего ж тебе еще?..». – И так тоже соблазнял ты меня, мой деймоний (нашептывал, обещал, пророчил), чтобы крепче еще привязать к себе, чтобы жил я только тобой одним, чтоб дышал и чувствовал лишь то, что дышится и чувствуется тебе.
А чего мне и надо-то? Кажется, пожил и начувствовался так, как удается немногим, – как, пожалуй, не дано было никому вокруг. За это только одно я должен благодарить тебя бесконечно. Тебя одного, и никого больше.
Такова тайна моя, наша общая тайна… Ты-то сможешь потом передать ее дальше, а я – не отдам теперь уже никому.
1.
Осень в этом году славная, особенная даже осень. Давно бы пора пролиться дождям, ударить первым заморозкам, ан нет: и небеса чисты по-прежнему, и ясное солнце купается в желтой листве, и какой-то особый покой и умиротворение вокруг. Если бы не загустевшая синева небес, не эта листва (все еще роскошная и праздничная, но и изрядно поредевшая), то и не определишь сразу, что за пора такая стоит и какое теперь время.
В церковном парке пустынно и одиноко – это самое спокойное место в округе. Людей здесь почти не бывает, особенно в будни, и потому хорошо, без помех и напряжения, думается. Можно даже разговаривать вслух с самим собой, и некому здесь подслушать тебя… Подслушать, переврать, донести.
Высокий, чуть сутулый старик в черной одежде, тяжело и осторожно присев на поваленное давней грозой дерево в самом конце небольшой аллеи, надолго задумался. Теплый ветерок чуть ерошил седые длинные волосы на его непокрытой голове. А мысли текли плавно и легко, как давно у него не было. Слишком давно.
Старик запрокинул голову и прикрыл глаза, подставив сухое лицо закатному солнцу. Тихо в парке. Изредка прошелестит листвой набегающий ветерок, принося издалека едва различимые звуки кузни, работы, возвращающегося стада. Принесет, омоет этим извечным прибоем жизни и побежит дальше – все такой же торопливо-легкий, неутомимый, как сто и как тысячу лет назад. После него еще сильнее чувствуется здешняя, под молчаливой крепостью древесных стволов, спокойная отгороженность от мира.
Хорошо сидеть вот так – ни о чем не заботясь, ни о ком не думая, ничего вообще не ожидая и уже не тревожась. Так, словно все вокруг пропало, исчезло, растворилось в солнечных лучах, в неугомонном перешептывании ветра с высокой листвой. Хорошо – просто сидеть и ничего не ждать. В слишком долгом ожидании перегорает душа, опустошается незаметно горьким и едким дымом времени – так же, как этот вот, почти невидимый на солнце, неторопливый огонь, пережевывающий в золу кучи палых листьев, аккуратно наметенные старательным Иоахимом, садовником.
Да, ждать еще чего-то теперь бессмысленно, нет на это уже ни времени, ни душевных сил. Просто – заканчивается и эта, казавшаяся когда-то длинной, дорога, все опять отплывает в прошлое. Не стоит обманывать себя: личного бессмертия не существует, и там, дальше, – пустота, забвение, ничто. Чудес не бывает, а потому нужно лучше приготовиться к неизбежному.
Колокол собора в парковой тишине прозвучал неожиданно густо, напряженно. Однако старик не поторопился на его тягучий призыв. К чему теперь суетиться и спешить? Куда приятней вот так, не открывая глаз, сидеть на поваленном бурей древнем стволе – таком же крепком когда-то, как он сам.
Руки его, обтянутые сухой и желтой, в бурых крапинах, кожей, чуть подрагивали на остро выпирающих под сутаной коленях. Казалось, он просто уснул, разомлев под нещедрым теплом догоравшего светила, и одни только губы еще продолжали в дремоте шептать вливающиеся в бормотание увядающей листвы, не слышные никому слова.
Он просто сидел, отдыхая и ни о чем больше не тревожась.
2.
Ну не смешно ли: заканчивать очередное земное существование свое настоятелем собора, названного в честь тебя самого?! Это, наверное, самая долгая и смешная шутка, которую может подгадать бессмертному его судьба. Это – истинная шутка, потому что понятна она только тебе, уж этой-то шутке ты будешь улыбаться и после, всегда.
Кто бы мог подумать: и через тринадцать веков, промелькнувших как день, вспоминать, усмехаясь, давно перезабытое всеми!
3.
Оно отвергает меня, как все прежние, и в то же время цепляется за меня всей своей животной силой. Унизительно мучают друг друга сейчас разум мой и старая, изжитая плоть: приступами наваливается и давит обоих глухота, кружится голова и болит везде, болит нескончаемо. Мы оба страдаем – каждый по своему… – так не лучше ли прекратить эту пытку, расстаться нам навсегда? В конце концов, все равно ведь придется перенести еще не одну смерть, все в той же рабской стране. Вновь измучившись, словно отравленная крыса в тесной и темной норе.
Мы, струльдбруги, выбирая самую сильную, активную, но и самую алчную плоть себе, никак не можем принять в расчет, что сила ее уйдет со временем и останется одна только алчь. Хорошо, если, как в юности, все еще алчешь ты знаний, наук и совершенства. Куда хуже, если это – всего лишь обычная животная алчь дряхлеющей, но цепкой и жадной плоти.
Человек, конечно, способен к разуму, но, увы, не всегда разум этот достается самым достойным, таких на Земле немного, может быть, – всего один на тысячу. И подозреваю я, что соотношение это не изменится уже никогда: годы идут, мелькают эпохи, но животная суть всё так же сильна в похотливых и вечно голодных еху – ныне, присно и во веки веков! Сколько бы ни пытались мы вновь и вновь исправить хоть кого-то из них, сколько бы сил ни прилагали к тому, чтобы изменить род человеческий к лучшему, – не изменится ничего, никогда.
Да, тринадцать веков назад я принес мир и успокоение здешним неласковым, диким землям, именно я подарил этим людям хоть какой-то покой и порядок, дал им то, чего так не хватало безумным – крепкую религию и новую веру. Я сделал так, чтоб не корежился род их в тупых и бессмысленных распрях. Чтобы не меч и огонь, а доброе слово и осмысленная речь вели их дальше, спасая от крови и жестокосердия. И ведь даже ненавидевшие поначалу меня друиды стали тогда помогать мне в этом! Все считали меня простым уладским пастухом (а в святые зачислили и собор возвели потом, много позже). Я действительно дарил им мир. Но ненадолго, как оказалось. Еху, в массе своей, просто не способны жить мирно.
Впрочем, какое значение это имеет теперь? Разумеется, люди неисправимы и телесное всегда будет брать в них верх над духовным. В этом теперь убежден я так, как никогда раньше. Но и теперь не могу отступить от самой первой нашей – наивной – клятвы: «Мы, струльдбруги, будем обмениваться друг с другом собранными нами в течение веков наблюдениями и воспоминаниями, отмечать все степени проникновения в мир разврата и бороться с ним на каждом шагу нашими предостережениями и наставлениями, каковые, в соединении с могущественным влиянием нашего личного примера, может быть, предотвратят непрестанное вырождение человечества…».
Я помню многое, но многое и стараюсь не вспоминать. До сих пор перед мысленным взором моим, стоит только захотеть, встают – живыми как прежде! – сменяя друг друга, и безумное великолепие «вечных» ассирийских садов, и даже куда более давнее – углем и охрой размалеванные, мрачные в отблесках костра, стены первой пещеры, ставшей прибежищем нашему племени. Отчетливо вспоминаю я тогда и пыльный топот идущих в атаку боевых слонов Ганнибала, и свистящую пляску древнего ветра в том изодранном парусе, который никому уже не отыскать под ледяной гренландской скорлупой. Я помню каждую из своих женщин, каждого ученика, каждое их слово, улыбку и каждую строку.
Только к чему мне это теперь? Все оно так же далеко от меня, как и долгий вкус исступленных агорийских споров под молодое вино, как последний, терпкий, глоток благословенной цикуты: «Блаженна та пора, когда спешить – не надо. Дочь скоротечных дней, исчерпана хандра. Приятно-холодна, желанна чаша яда. И добрая, с клюкой, приходит: Нам – пора!..».
Я, конечно, знавал многое и многих. Был свидетелем переворотов в державах и империях, видел перемены во всех слоях общества – от высших до низших. Древние города в развалинах. Безвестные деревушки, ставшие резиденцией королей. Знаменитые реки, высохшие в ручейки. Океан, обнажающий один берег и наводняющий другой. Был участником открытия неизвестных еще стран, свидетелем погружения в варварство культурнейших народов и приобщения к культуре народов самых варварских. Я наблюдал великие открытия, и я помню многих людей – великих и простых, разных.
Я сам был многими, но всегда оставался собой – струльдбругом, то есть бессмертным.
4.
Не хочу даже пытаться представить, как можно длить бесконечную жизнь, подверженную всем невзгодам, которые приносит с собой старость. Надеюсь, что мне и теперь удастся уйти достойно и вовремя, ибо, уверен я, ни один тиран не смог пока изобрести казни, которую я с радостью не принял бы, лишь бы избавиться от такой жизни, какая ждет тебя еще не-добрый десяток лет, мой Джонатан.