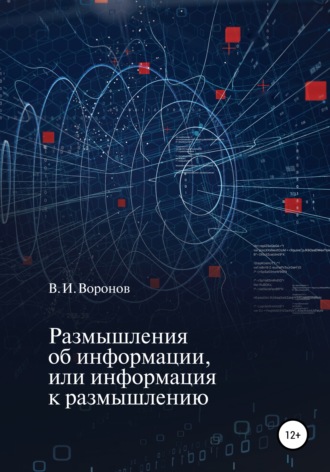 полная версия
полная версияРазмышления об информации, или Информация к размышлению
Явления психокинеза в рамках ИП также оказываются вполне возможными. Рассмотренное в разделе 2.3 решение проблемы измерений в квантовой механике предполагает, что связь объективных физических процессов и субъективных ментальных процессов психики осуществляется посредством фундаментальных И-И-взаимодействий выбора, реализующих одну наблюдаемую альтернативу из множества квантовых возможностей. И выбор этот может быть как случайным, в соответствии с вероятностями, задаваемыми волновой функцией, так и целенаправленным, вне зависимости от величины вероятности осуществления выбираемой альтернативы. Поэтому явления психокинеза, несмотря на то, что они практически невероятны с точки зрения случайного выбора, на самом деле не противоречат физическим законам.
Но для успешного осуществления психокинетических экспериментов важно, чтобы выбор, реализуемый индивидуальным сознанием, был нейтральным относительно глобального выбора, осуществляемого Наблюдателем. В противном случае психокинетический опыт не может быть удачным.
Среди множества психокинетических явлений особое место занимают явления микропсихокинеза. И прежде всего потому, что они оказываются воспроизводимыми и для их изучения применим статистический подход. Наиболее популярными являются исследования, связанные с воздействием психики (сознания) на генераторы случайных чисел, например на генератор, основанный на радиоактивном шуме [Смит, 2011].
По мнению Карла Сагана [Саган, 2015], критически относящегося к явлениям психокинеза, в этих опытах наблюдается небольшой, но устойчивый эффект. Если это действительно так, то мы фактически имеем экспериментальное подтверждение целенаправленного сознательного выбора квантовой альтернативы, нарушающего вероятностный закон, задаваемый волновой функцией. Конечно, 1 % – это далеко не экстраординарное доказательство для такого эпохального для науки вывода. Однако такая невысокая эффективность психического воздействия на квантовые события может быть связана с неопределёнными представлениями об объекте эксперимента и с недостаточной мотивацией субъекта опыта. А наличие значимой цели и глубокое осознавание процессов, на которые влияет психика, сможет поднять эффективность опытов выше экстраординарного порога.
Итак, если психологию во всех её областях можно рассматривать как естественную науку, изучающую другую – информационную – реальность, присутствующую в биологических ИС, то, как и в любой естественной науке, используемые в психологии методы должны удовлетворять таким научным критериям, как доступность и воспроизводимость результатов опытов и наблюдений, а также верифицируемость фактов и теорий.
Конечно, та часть психологии, которая связана с функционированием биологических ИС, будет по-прежнему использовать редукционный подход, позволяющий исследовать структуру нервной системы и выявлять корреляции физических процессов, протекающих в мозге, с поведением организмов. Это оказывается возможным, так как информационные взаимодействия в материальных ИС объективируются за счёт физических посредников, переносящих коды.
Однако психология должна основываться не только на объективном, но и на сознательном субъективном опыте, не находящем отражения в поведении организмов. Но в этом случае традиционные критерии воспроизводимости явлений и верификации фактов оказываются неприменимы. Поэтому пока не будут выработаны новые критерии, субъективный опыт не может быть полноценно использован в естественных науках.
А для того чтобы субъективный опыт стал доступным для изучения, он должен быть переведён с индивидуального на социальный уровень. И сделать это можно посредством нарративов – вербальных отчётов, в которых отражается воспринимаемая индивидом внутренняя информационная реальность.
Трудно сказать, какой способ верификации таких нарративов окажется наиболее убедительным. Это может быть статистический подход, используемый в настоящее время при исследовании парапсихических феноменов, или некие «критерии массовости», связанные, например, с религиозным опытом. Но возможно, что новые технологии изучения мозга помогут создать своеобразный «детектор истинности», верифицирующий сознательный субъективный опыт на основе специфических паттернов нейронной активности. Однако в любом случае задача верификации нарративов должна быть решена, так как сознание является единственным инструментом, способным дать представление о внематериальных реальностях, и достоверность этих представлений должна быть научно установлена.
Но природа самого сознания вряд ли может быть понята в рамках одной только психологии биологических организмов. Действительно, главной задачей психологии является изучение поведения организмов, но многие поведенческие акты не сопровождаются сознательными переживаниями. Управление внутренними органами, рефлекторное и автоматическое поведение происходят бессознательно, и для их объяснения достаточно уровня информационных взаимодействий. А при создании ИИ, имитирующего поведение человека, не видно каких-либо принципиальных трудностей, для преодоления которых необходимо было бы привлекать сознание.
И тем не менее, все важнейшие аспекты поведения сопровождаются сознательными переживаниями, которые невозможно представить как следствие физических или информационных процессов в биологическом организме. Но, как уже неоднократно отмечалось, в сложных иерархических ИС возникает потребность в коммуникационных каналах, объединяющих все уровни иерархии. И возможно, проявление сознания при формировании значимых в иерархии элементов поведения связано именно с информационным единством глобальной ИС, которая на одном из своих иерархических уровней включает и биологическую жизнь.
В таком контексте проблема сознания выходит далеко за рамки психологии и приобретает статус философской проблемы, которая вообще является самой трудной проблемой естествознания.
В последующих главах проблема сознания будет более подробно рассмотрена с точки зрения ИП, предполагающей существование независимой информационной реальности, и будет сделана попытка структурирования сознания.
И наконец, на основе нарративов, полученных в изменённых состояниях сознания, будут оценены те возможности, которые сознание открывает в познании Бытия во всей его глубине и многообразии.
Глава 3. Тайна сознания и тайна информации
3.1. А в чём же тайна?
Физикалистский взгляд на реальность утверждает, что наш каузально замкнутый мир может быть полностью описан физическими законами, в которых нет места таким «особым субстанциям», как информация и сознание. Конечно, информация и сознание – это «не материя и не энергия», а с физической точки зрения это лишь свойства материи, возникающие в системах, достигших определённого уровня сложности. В таких, например, как живые организмы.
Однако каким-то таинственным образом эти свойства неожиданно разрушают каузальную замкнутость физического мира, внося в него совершенно определённую целенаправленность. И не видно никаких убедительных подходов, которые бы позволили понять, как в результате действия жёстко детерминированных физических законов, диктующих необходимость, в Природе возникает целенаправленность, обеспеченная свободой выбора, и мир становится телеологичным.
Более того, однажды возникнув, информация способна не только вносить целенаправленность в реальный материальный мир, но и целенаправленно создавать свои собственные виртуальные миры.
И для нас, участников этих процессов, ничего таинственного в этом нет. А тайна заключается в другом – в том, каким образом вообще могло возникнуть кодирование, породившее одновременно содержательную информацию и комплементарные материальные системы, способные целенаправленно её использовать.
Ничего другого, как связать зарождение информации со случайными процессами и некими критериями отбора, физикализм предложить не может. Но даже если бы такой подход оказался успешным и дал разумные значения вероятности возникновения жизни как естественной ИС, всё равно пришлось бы признать, что случайность способна превратиться в свою противоположность – целенаправленность.
Однако если природа устроена так, что подобное превращение возможно, то это значит, что целесообразность изначально присуща природе. А то, что мы её не обнаруживаем в физических законах, наводит на мысль, что эти законы описывают не Природу в целом, а лишь отдельную, относительно изолированную её часть.
Но если существование информации не вызывает сомнений и она присутствует в любой ИС, сколь бы простой она ни была, то относительно сознания этот вопрос остаётся открытым. И здесь разброс мнений огромный – от полного отрицания самого понятия сознания сторонниками элиминативного материализма, предлагающими изъять его из науки как устаревшее и иллюзорное (подобное флогистону), до панпсихизма, признающего наличие сознания в любой материальной системе.
Действительно, субъективная природа сознания открывает возможность для любых спекуляций. Поэтому единственное, в чём мы можем быть уверены – это в наличии своего собственного сознания, своих собственных ментальных состояний. При этом природа ментальности представляется двухаспектной. Один аспект ментальности – это психологическое ментальное, связанное с продуцированием поведения на основе информационных процессов. Такого рода ментальность можно назвать информационным сознанием или И-сознанием3, имея в виду её информационное происхождение и связь с когнитивными процессами в организме. При этом часть информации, связанной с поведением, может сознательно контролироваться, то есть выступать в форме знаний или, в терминологии Д. Чалмерса, в форме осведомлённости. Но другая часть может использоваться и на бессознательном уровне, как это происходит, например, при осуществлении поведения отдельных органов организма.
Как это уже обсуждалось в разделе о проблемах психологии, И-сознание может изучаться в рамках когнитивной науки, использующей «компьютерную метафору» для исследования информационных процессов в мозге и связанных с ними поведенческих функций. Компьютерная метафора предполагает инвариантность информационных процессов и соответствующего им поведения относительно физической реализации ИС. Такими системами могут быть и биологические объекты, и запрограммированные должным образом компьютеризированные устройства.
Понятая таким образом психологическая ментальность не содержит каких-либо существенных тайн, кроме своей «родовой тайны» – целенаправленности поведения, привнесённой в мир информацией.
Другим аспектом ментальности является феноменальное понятие ментального, связанное с переживаемыми качественными состояниями. Простейшими качественными переживаниями являются квалиа, представляющие перцептивные ощущения цвета, звука, запаха, вкуса, тепла и прикосновений. Квалиа могут иметь разную интенсивность, длительность и пространственную организацию. Совокупность квалиа образует переживание субъективного образа воспринимаемого внешнего мира.
Другая группа субъективных переживаний связана с состояниями организма. Это целый спектр болевых ощущений и ощущений удовольствия, а также разнообразных физиологических позывов, таких как голод, жажда или сон. Ещё один вид феноменального опыта – это чувства, эмоции и настроения, связанные с социальной жизнью. Любовь, ревность, гнев, сострадание, зависть, горе, печаль – всего лишь общие названия огромного количества ощущений, порождаемых общением в социальной среде.
Важнейшим видом феноменального опыта являются также переживания смыслов, связанных с пониманием. Разумное поведение, для продуцирования которого достаточно лишь И-сознания, не обязательно должно быть осмысленным. И в то же время конкретная информационная ситуация может быть наполнена множеством разных смыслов, которые, безусловно, являются субъективными.
Смыслы – это некие динамические квалиа, дающие ощущение связности окружающего мира с индивидуальным прошлым, настоящим и будущим. Но так же, как ощущение цвета не следует из тех нервных импульсов, которые создаются органами зрения, так и ощущение смыслов не следует из тех информационных моделей реальности, которые формирует И-сознание.
Феноменальный опыт не обязательно связан с какими-либо фактическими аспектами реальности. Он может существовать и в виде переживаний внутренних ментальных образов и смыслов, проявляющихся в воспоминаниях и грёзах или рождающихся в снах и галлюцинациях.
Ещё одним видом феноменальных переживаний являются переживания мистического и религиозного опыта, в котором воспринимается реальность, выходящая за пределы физического мира.
Рассматривая ту часть ментальности, которая связана с потоком всех рассмотренных субъективных переживаний, можно говорить о существовании феноменального сознания, или Ф-сознания. В философской литературе часто говорят о феноменальном сознании просто как о сознании, оставляя за И-сознанием термин «психическое ментальное».
Редуктивный физикализм предполагает, что для объяснения Ф-сознания достаточно установить корреляции между переживаемыми феноменальными качествами и паттернами нейронной активности мозга. Однако даже если это удастся осуществить, всё равно не станет понятней, почему нейронная активность вообще может приводить к появлению качественных переживаний, так как любые физические законы определяют только структуру и динамику наблюдаемой реальности, но не приписывают ей никаких качеств.
В этом, по существу, и заключается тайна феноменальной ментальности или, как назвал её Д. Чалмерс [Чалмерс, 2013], «трудная проблема сознания». И опять, как и в случаях с другими «трудными» проблемами, корень трудностей, по-видимому, кроется в ЕНП, в рамках которой нет и не видно каких-либо объяснительных мостов, способных привести нас от понимания процессов в физических системах к пониманию существования Ф-сознания.
3.2. Кто в доме хозяин – материя или сознание?
Конечно, отсутствие понимания природы сознания в физике не означает, что его природу нельзя установить в принципе. Любая трудная проблема науки, не поддающаяся физическим методам познания, становится предметом изучения философии, задача которой – найти все логически возможные пути решения проблемы, используя в качестве основного метода исследований мысленные эксперименты и интегрируя данные всех наук, причастных к обсуждаемому вопросу.
В большинстве теорий философии сознания основа реальности представляется только двумя конкурирующими сущностями – материальной и идеальной. И хотя когнитивные науки уже рассматривают информацию как главного участника в формировании поведения, статуса самостоятельной реальности информация в философии ещё не получила. Поэтому различие в теориях сознания сводится к выбору фундаментальной сущности (субстанции) между материальным и идеальным и в конкретном взгляде на взаимоотношения этих двух сущностей. При этом монистические теории признают субстанцией только одну сущность, а дуалистические – обе.
Логика естественных наук приводит к убеждению, что в Природе нет ничего более фундаментального, чем материя, а все ещё не понятые явления при более глубоком рассмотрении можно свести к её свойствам. При этом материализм либо вообще отрицает существование сознания как особого феномена (элиминативный материализм), либо отождествляет его с некими нейронными процессами, которые будут открыты в будущем (редуктивный материализм), или же трактует сознание как свойство нового типа, возникшее в сложной нейронной системе (эмерджентный материализм).
В отличие от материализма, идеализм вовсе не уверен, что наши сознательные ощущения тождественны внешнему миру. Он исходит из того факта, что никакая другая реальность, кроме реальности субъективных переживаний, нам не доступна. Поэтому мы вынуждены признать только сознание фундаментальной сущностью, отводя материи скромную роль причинной интерпретации феноменального опыта.
Дуалистические теории, не отдавая предпочтения ни материи, ни сознанию, признают их равноправными субстанциями. Но основной вопрос дуализма, заключающийся в том, каким образом эти субстанции взаимодействуют, если каждая из них причинно замкнута, остаётся открытым.
Интерактивный (картезианский) дуализм признаёт существование двусторонних причинных отношений между мозгом и сознанием – как снизу вверх (от мозга к сознанию), так и сверху вниз (от сознания к мозгу), что вполне соответствует нашему интуитивному пониманию формирования сознательного поведения. Но никаких реальных механизмов таких взаимодействий, способных прояснить вопрос «свободы воли» или проблему «душа – тело», интерактивный дуализм не предлагает.
Можно, конечно, освободить сознание от необходимости влиять на поведение, оставив полностью выполнение этой задачи информационным процессам в мозге, и считать сознание всего лишь эпифеноменом, то есть побочным явлением, сопровождающим мозговую активность (эпифеноменализм). Можно и вовсе отказаться от взаимодействия материальной и идеальной субстанций (параллелизм), но к решению «трудной проблемы сознания» в дуалистических теориях такие подходы никак не приближают.
Однако остаётся ещё одна возможность – рассматривать сознание и материю как разные проявления некой более фундаментальной сущности, составляющей единую основу Бытия (нейтральный монизм). Такое предположение не противоречит физическим наукам, так как, по существу, физика, описывая структуру и поведение материи, ничего не говорит о внутренней глубинной природе физических объектов.
Поэтому, как утверждают сторонники панпсихизма, возможно, что фундаментальные материальные сущности содержат также и ментальный аспект – сознание в некоей изначальной форме. Или же, согласно «двухаспектной теории» Макса Велманса [Velmans, 2009], единая нейтральная субстанция несёт в себе как черты материальных структур и процессов, так и черты феноменального опыта, подобно тому, как квантовая сущность может проявлять себя и как волна, и как частица.
3.3. Единое Бытие – кто против?
Продолжающийся уже несколько столетий философский спор о месте и роли сознания в структуре Бытия, по существу, до сих пор ни к чему определённому так и не привёл. Впрочем, это не создаёт каких-либо трудностей в конкретных исследованиях в рамках естественных наук. У физики по-прежнему достаточно работы, не связанной с сознанием, в мире материальном, а «проблема измерений» в квантовой механике никак не ограничивает её прикладные возможности. В психологии поведение живых организмов успешно изучается на основе информационного подхода и не требует привлечения Ф-сознания.
Однако тайна сознания никуда не исчезает. Но, похоже, что сам выбор фундаментальной сущности Бытия на основе рассмотрения только двух реальностей – материи и сознания – уже себя исчерпал.
Действительно, новые реальности, вошедшие в науку, отношения которых с материей ещё до конца не прояснены, также могут претендовать на участие в этом конкурсе. Это и многоальтернативная квантовая реальность, порождающая материальный мир. Это и информационная реальность, способная создавать свои собственные виртуальные миры. И наконец, это внешняя реальность, связанная с Наблюдателем, на существование которого указывают «трудные» проблемы науки.
Однако, оставаясь на позициях ЕНП, можно надеяться только на то, что информация и сознание окажутся всего лишь свойствами сложных физических систем, а квантовая реальность будет осмыслена как часть общей физической реальности. С этих позиций можно также не замечать настойчивых сигналов, посылаемых внешней реальностью, об её участии в эволюции Вселенной. Но вряд ли такая позиция окажется конструктивной в попытке представить Бытие во всём его единстве.
В отличие от ЕНП, информационная парадигма не пытается замкнуть всё многообразие проявлений Бытия в рамках одной избранной реальности или признать их полностью изолированными друг от друга. Тот факт, что мы в какой-либо форме воспринимаем все упомянутые реальности, как минимум говорит об их взаимосвязи. Поэтому, если рассматривать Бытие как совокупность множества самостоятельных взаимосвязанных реальностей, подход нейтрального монизма становится практически неизбежным. И главная задача в таком подходе связана с поиском, при всех различиях свойств информации, сознания, материальной и квантовой реальности, того общего, того изначального, что может их объединять.
Проще всего начать с информации, внутренняя природа которой доступна для наблюдения и основывается на различении. В материальном мире для этого может быть использовано всё что угодно – от элементарных частиц с разнонаправленными спинами, до высокоуровневых систем, имеющих разные устойчивые состояния.
Но на изначальном уровне, вне любой наблюдаемой реальности, информации для обретения своего существования необходимо наличие субстанционального нечто, несущего в себе элементарное двоичное различие. Такое нечто мы уже назвали диффероном. Последовательности дифферонов, находящихся в разных состояниях, могут образовывать информационные объекты и являться основой первичных информационных реальностей.
Однако такое естественное предположение о виде информационной субстанции влечёт за собой фундаментальные последствия. Действительно, если придерживаться идеи единого Бытия, то в основе любой реальности должна оказаться субстанция, представленная дифферонами, и в конечном итоге любая реальность должна иметь информационные корни.
Конечно, мы пока далеки от того, чтобы понимать, как формируются реальности, но уже сейчас можно утверждать, что такой взгляд не противоречит нашим знаниям о материи, квантовом мире и сознании.
Из всех обсуждаемых реальностей больше всего нам известно о материи. Но всё, что мы о ней знаем – это только внешние свойства физических объектов, такие как структура и динамика. А внутренняя, скрытая от наблюдений природа материального нам до сих пор неизвестна. Но и природа внешних свойств при внимательном рассмотрении проявляется лишь в информационном виде. «It from bit» – всё из бита. Этот известный слоган, принадлежащий Джону Арчибальду Уилеру [Wheeler, 1994], фиксирует тот факт, что «все физические сущности в своей основе являются информационно-теоретическими». Действительно, всё, что мы знаем о физическом мире, в конечном счёте сводится к последовательностям утверждений «да» и «нет», то есть к текстам в бинарном коде, которыми Вселенная отвечает на наши вопросы, поставленные в экспериментах.
Таким образом, природа нашего действительного мира практически ничем не отличается от природы любого виртуального мира, что и породило идею рассматривать Вселенную как суперкомпьютер [Fredkin, 1990]. Ничем, но за одним исключением – виртуальные миры могут базироваться на любых различениях в мире материальном, а миру материальной реальности негде найти другого различения, кроме как в субстанциональном нечто, в диффероне, который, возможно, и через иерархию промежуточных реальностей обеспечивает внутреннюю природу материи.
Но наблюдаемый материальный мир является всего лишь одной из возможных проекций квантового мира. В предыдущей главе уже обсуждался целый ряд альтернативных взглядов на то, каким образом такая проекция реализуется. И, в зависимости от вида интерпретации квантовой механики, существуют разные представления и о квантовой реальности.
В интерпретациях, связанных с редукцией волновой функции, квантовый мир предстаёт как некая многовариантная потенция, существующая в законченном виде в четырёхмерном пространстве-времени; как мир, в котором нет ничего материального, до тех пор, пока сознание не актуализирует его в наблюдаемую материальную реальность. В этом подходе сознание выступает как посредник между информационной реальностью квантового мира и материальной реальностью наблюдаемой Вселенной, которой, как сказал Д. Уилер, «для своего бытия необходимо наше участие» [Wheeler, 1994].
В подходах, связанных с предположением о существовании «скрытых параметров», считается, что квантовая реальность состоит из вполне материальных объектов, но организованных таким образом, чтобы их проявления давали вероятностную картину, соответствующую уравнению Шрёдингера, как это реализовано, например, в теории Д. Бома. И эта организация связана с присутствием в квантовом мире определённой информационной составляющей – так называемой волны-пилота.
И наконец, сторонники Одного Большого Мира (в духе идей Эверетта) считают, что квантовая реальность представляет собой совокупность всех возможных материальных альтернатив, которые декогерируют друг от друга и образуют множество причинно замкнутых материальных миров, существующих параллельно.
Но какой бы взгляд на квантовую реальность ни использовался, важно, что мы по-прежнему остаёмся в рамках материальной и информационной реальностей. И, следовательно, квантовый мир может так же, как и эти реальности, базироваться на единой субстанции, связанной с диффероном.

