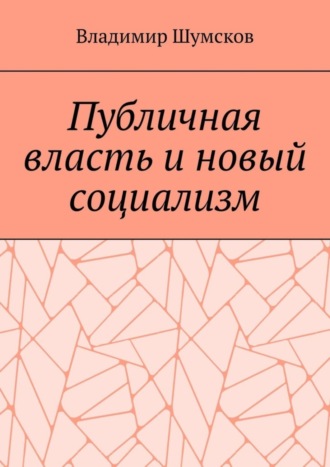
Полная версия
Публичная власть и новый социализм
При «натуральном хозрасчете» оплата производилась по принципу: «От каждого – по способности, каждому – по конечным результатам труда». Такие колхозы превращались в социалистические предприятия и относились к колхозно-кооперативному сектору экономики.
Если в первом случае мерой оценки и формой учета выступал «пай-акция», то во втором случае мерой оценки и формой учета количества и качества труда выступал «трудодень».
Если оплата за паи-акции выдавалась только при получении прибыли, то оплата за трудодни производилась продуктами производства или деньгами, даже, если прибыли колхоз и не получал.
Известно, что сельское хозяйство во всем мире – производство не прибыльное, а зачастую – убыточное. Поэтому, каждую весну государственная власть в лице Совнаркома предоставляла социалистическим колхозам льготные банковские кредиты, а осенью производился взаиморасчет между государственной властью и колхозами. Если колхоз не получал прибыли, но выполнял план по выпуску запланированной продукции и обеспечивал население и производство сельхозпродуктами, то государственная власть списывала ему долги по кредиту. И следующей весной вновь выдавала новый кредит.
Кооперативные сельхозпредприятия коммерческого сектора, естественно, таких льгот от государственной власти не получали.
Все противоречия между коммерческим и колхозно-кооперативным сектором экономики, возникающие на основе различных форм собственности, а, стало быть, и на различных способах производства и способах распределения результатов труда, порождали разногласия среди «строителей социализма и коммунизма», т.е. среди лидеров и вождей коммунистической Публичной власти, и делали неустойчивой саму коммунистическую Публичную власть.
Экономические противоречия порождали, в свою очередь, и политические противоречия.
Публичная власть, как мы уже говорили выше, представляет собой взаимодействие секторальных властей, каждая из которых защищает свой сектор экономики и ту форму собственности, на которой этот сектор развивается. Каждая секторальная власть лоббирует и защищает интересы своего сектора.
В 1921 году коммунистическая Публичная власть включала в себя две формы власти.
Была государственная власть, в лице Совета Народных Комиссаров, которая защищала государственную (общую) форму собственности и, базирующийся на ней, государственный сектор экономики, который справедливо называли в то время «государственным капитализмом».
Была и советская власть, в лице Высшего Совета Народного Хозяйства и Совета Труда и Обороны, которые защищали, с одной стороны, колхозно-кооперативную (общую долевую) собственность, а с другой – частнокапиталистическую (акционерную) форму собственности и, базирующиеся на них, колхозно-кооперативный и коммерческий сектор экономики. Фактически они защищали, и социалистическую, и буржуазную кооперацию.
При этом, коммерческий сектор экономики марксисты называли, опираясь на К. Маркса «частнохозяйственным капитализмом» и коммерческим сектором экономики. А колхозно-кооперативный экономический уклад справедливо называли социалистическим сектором экономики.
Взаимодействие органов государственной власти и органов советской властей между собой и формировали единую коммунистическую Публичную власть, нацеленную на построение социализма и коммунизма.
Тем не менее, противоречия между Совнаркомом и Совнархозом с каждым годом становились всё явственнее и иногда принимали затяжной характер.
После смерти В. Ленина, И. Сталину пришла идея, снять (разрешить) данное противоречие. Разрешить его путем создания над этими двумя формами властей единого руководящего органа, который бы помогал им развивать экономику страны в едином – коммунистическом – направлении.
Другими словами, И. Сталин предложил создать единый политический орган, который бы определял единую – коммунистическую – политику в стране.
При этом РСДРП (б) уже при В. Ленине переименовали в Российскую Коммунистическую партию большевиков.
Следовательно, таким органом, по мнению И. Сталина, должно быть Политическое бюро (Политбюро) Центрального Комитета Российской Коммунистической Партии (большевиков) во главе с Первым секретарем, каковым на тот момент являлся он сам.
И это было логично!
Раз Публичная власть имела коммунистический характер, то и во главе неё должен был стоять такой орган власти, который утверждал бы «коммунистическое направление».
Осенью 1923 года секретариат ЦК РКП (б) направил всем наркомам и руководителям государственных учреждений перечень должностей (номенклатуру), назначения на которые осуществлялись бы исключительно Постановлениями Центрального Комитета Коммунистической партии большевиков.
Номенклатура – в переводе с латинского языка означает «роспись имен, перечень, список чего-либо или кого-либо».
Таким образом, во все высшие органы государственной и советской власти могли попасть только члены партии, твердо стоявшие на позиции большевиков-ленинцев, державших курс в направлении строительства социализма и коммунизма.
Не все обрадовались такому нововведению.
Особенно против такого новшества возражали бывшие меньшевики и правые эсеры. Но и среди левых эсеров немало было тех, кто возражал против такого засилья «партийных бюрократов» во власти. Среди возражавших партийцев были Н. Бухарин, Л. Троцкий и другие коммунисты.
И тогда началось «очищение партии от оппозиционеров и врагов народа».
Начались репрессии против всех противников «упрочения коммунистической Публичной власти», какие бы должности они не занимали, и какие бы награды от советской власти не имели.
Так с 1923 года коммунистическая Публичная власть в СССР, прежде состоящая из двух элементов, пополнилась ещё одним элементом. Наряду с органами государственной и советской власти в неё вошли и органы партийной власти: сельские, городские, районные и областные комитеты ВКП (б), которые, как муку сквозь сито просеивали кадры для Публичной власти.
С этого момента структура новой Публичной власти стала выглядеть так:
1. Государственная власть во главе с Совнаркомом (СНК), защищающая государственный сектор экономики;
2. Советская власть во главе с ВСНХ и СТО, защищающие колхозно-кооперативный и коммерческий сектор экономики;
3. Партийная власть во главе с Политбюро Центрального Комитета ВКП (б), руководящая и направляющая сила, которая помогала обеим формам власти держать курс на построение социализма и коммунизма в стране.
Так в молодой Республике советов родилась новая Публичная власть, которая включала в себя три элемента власти и которую справедливо называли «коммунистической Публичной властью».
К 1928 году коммунистическая Публичная власть упрочилась настолько, что могла себе позволить принять план развития всех секторов экономики (всего народного хозяйства) не на один год, а на пять лет.
Так появилась в СССР «первая пятилетка».
Первая пятилетка – это был, по сути, первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР в истории страны с 1 октября 1928 г. по 30 сентября 1933 г. включительно. Первая из сталинских пятилеток индустриализации СССР.
14. «Сталинская конституция», бюрократический
централизм и «отмирание» народовластия.
В 1936 году была принята новая Конституция СССР, которая в народе получила название «сталинской конституции».
В статьях 4 и 5 новой Конституции было записано: «Экономическую основу СССР составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и уничтожения эксплуатации человека человеком. Социалистическая собственность в СССР имеет либо форму государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений)».
Таким образом, в 1936 году новая коммунистическая Публичная власть фактически прекратила действие Новой Экономической Политики и окончательно поставила на путь «отмирания» коммерческий сектор экономики, объявив коммерческую деятельность уголовно наказуемым деянием.
Все предприятия различных нормативно-правовых форм, работавшие в коммерческом секторе, стали упраздняться или реорганизовываться, а их рабочие и служащие увольнялись и разбредались по всей стране.
Одни нашли своё место в некоммерческих секторах экономики, а другие всё-таки продолжили свою коммерческую деятельность, но уже неофициально и незаконно, тем самым закладывая основы «теневой экономики» в СССР.
Так в стране стали зарождаться «спекулянты, фарцовщики и цеховики», т.е. люди, занимающиеся незаконной коммерческой деятельностью.
При этом надо заметить, что до самой смерти И. Сталина Публичная власть не особенно яростно боролась против «коммерсантов и коммерческих предприятий», давая возможность коммерческому сектору спокойно и эволюционно «отмирать».
После принятия «сталинской конституции» экономика СССР включала в себя три сектора:
1. Отмирающий сектор – коммерческий, незаконный, теневой.
2. Господствующий сектор – государственный.
3. Зарождающийся сектор – колхозно-кооперативный.
Название Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в новой Конституции также было преобразовано. Они стали называться «Советами депутатов трудящихся».
Публичная власть того времени состояла из трех элементов:
1. Советская власть, которая зарождалась как горизонтально-территориальная система органов местного самоуправления в колхозно-кооперативном секторе экономики.
2. Государственная власть, которая зарождалась как вертикально-отраслевая система органов управления предприятиями в государственном секторе экономики.
3. Партийная власть, которая фактически руководила и направляла все органы Публичной власти в сторону построения социализма и коммунизма.
При этом, надо заметить, что в сталинской Конституции о «руководящей и направляющей роли КПСС» не говорилось ни слова.
В основном законе СССР только вскользь упоминалось, что КПСС, выступает в роли представителя «руководящего ядра» во всех общественных и государственных организациях трудящихся.
При этом, надо заметить, что система государственной власти замыкалась на Совнарком, который был преобразован потом в Совет Министров СССР (1945 г.).
Система Советской власти раньше замыкалась на Высший Совет народного Хозяйства, но по новой Конституции стала замыкаться на Верховный Совет СССР, при котором был создан Президиум Верховного Совета. Почему?
Потому что большевики во главе со Сталиным не без помощи «борьбы с оппозиционерами и врагами народа» добились своего и упразднили в 1932 году ВСНХ. А после этого упразднили и совнархозы на местах по всей стране.
Поэтому до принятия «сталинской Конституции» первую скрипку в Публичной власти играл Совнарком. И только после 1936 года появился триумвират власти – Совет Министров, Президиум Верховного Совета и Политбюро ЦК КПСС.
Этот властный триумвират фактически подчинялся решениям партийных съездов, на которых определялась общая социально-экономическая политика СССР и очередной «пятилетний план» развития социализма в стране.
Естественно, что между съездами социально-экономический курс страны, жестко контролировался и корректировался решениями Политбюро ЦК КПСС.
Приход партийной власти в Публичную власть принес с собой, как положительные, так и отрицательные результаты.
Партийная власть сыграла позитивную роль в том, что заменила в государственных предприятиях «коммерческий хозрасчет» на «натуральный хозрасчет». В результате этого государственные предприятия из «унитарных» превращались в «социалистические, народные» предприятия. Они стали не «продавать», не «оказывать услуги», а «поставлять» свою продукцию друг другу и населению, удовлетворяя общественные и производственные потребности. Продукция государственных предприятий перестала быть «товаром для рынка». Предприятия перестали быть «продавцами и покупателями», превратившись в «поставщиков и заказчиков».
Таким образом, частнокапиталистические (рыночные) отношения в экономике страны стали «отмирать» вместе с частнохозяйственным капиталистическим укладом и коммерческим сектором.
Отрицательную роль партийная власть сыграла в том, что она под давлением государственной власти, которая объективно развивалась на принципах «бюрократического централизма», постепенно свой партийный «демократический централизм», как принцип управления, стала подменять государственным, бюрократическим централизмом. Общие собрания коммунистов превращались в формальные заседания, на которых, якобы, «избирались» руководители, которых фактически предлагали (назначали) «сверху».
Это сказалось и на органах Советской власти.
Общие собрания рабочих и служащих, а также советы трудовых коллективов на госпредприятиях перестали играть существенную роль, превратившись в формальные «бюрократические заседания».
Другими словами, «выборность должностных лиц» и «принципы представительной и прямой демократии» подменялись постепенно «назначением партийных и советских должностных лиц сверху» и «принципами партийного единоначалия».
И чем мощнее становился государственный сектор экономики, тем прочнее в Публичной власти укреплялись принципы «бюрократического централизма».
Чем прочнее становились принципы «бюрократического централизма», тем сильнее становилась государственная власть в СССР.
Чем сильнее становилась государственная власть в СССР, тем слабее становилась советская власть и слабела роль органов местного советского самоуправления в системе единой коммунистической Публичной власти.
Местное самоуправление в лице советской власти, вобравшее в себя все традиции общинного, городского и земского самоуправления, под давлением партийной и государственной власти уступало свои позиции и отходило на второй план.
Советы по «сталинской конституции» самостоятельно решали вопросы, как местного, так и государственного характера. Но «самостоятельность» этих решений имела чисто формальный характер. Все решения фактически принимались в органах партийной власти.
Демократический централизм, формально допускал автономию и самостоятельность органов местной советской власти. Но так как, горизонтально-территориальные органы власти были жестко встроены в вертикально-отраслевую систему партийной и государственной власти, то в действительности местные советы теряли свою самостоятельность и фактически выполняли решения не конференций (собрания делегатов) и не общих собраний, а исполнительных органов партийной и государственной власти.
Реально в стране господствовала партийная власть, которая вкупе с государственной властью препятствовала развитию, как коммерческого сектора экономики, так и колхозно-кооперативного, преобразуя колхозы в совхозы.
Господство партийной и государственной власти способствовало господству «бюрократов и чиновников всех уровней». Публичная власть постепенно превращалась в «административно-командную систему управления производством». И такая модель управления государственным сектором экономики объективно стала защищать не «интересы народа», а «интересы партийной, хозяйственной и военной бюрократии», которым выгодно было господство именно государственной (общей, социалистической) собственности на средства производства.
Почему выгодно?
Да, потому, что, «частной собственностью бюрократа является государство» (К. Маркс).
Таким образом, мы можем уверенно сказать, что государственный сектор экономики и главный его экономический уклад под названием «государственный капитализм», с 1936 года стал развиваться в СССР не при господстве советской власти, а при господстве государственной власти, т.е. при господстве различных форм советской бюрократии.
И коммунистическая Публичная власть, взявшая курс на построение социализма и коммунизма, постепенно превращалась в бюрократическую Публичную власть, защищающую курс на удержание социализма и на сдерживание новых производительных сил, которые направили бы страну на построение коммунизма. Потому что при переходе к коммунизму, как доказали классики марксизма-ленинизма, государственная (общая) собственность постепенно «отмирает», уступая господствующее место в экономике страны коллективной (общей долевой) собственности. Собственности «ассоциированных производителей» (К. Маркс).
В послевоенное время, в 50-х годах в СССР господства советов, господства советской власти в системе коммунистической Публичной власти уже не было.
Вот почему с 1917 года и вплоть до 1990 года в СССР не было принято никаких законов о местном самоуправлении, которое фактически могло бы развиваться в форме советской власти.
В эти годы государственные идеологи от партийной бюрократии подавляли даже идеи и всякие теоретические рассуждения о местном самоуправлении.
Можно с уверенностью сказать, что новая история развития российского законодательства о местном самоуправлении (читай: о народовластии) возобновилась лишь во времена Перестройки (1985 – 1993 гг.).
15. Перестройка, бюрократы-либералы и рыночный социализм.
Местное самоуправление в СССР в течение длительного периода (с 1917 по 1990 год) практически не получило закрепления в правовых актах.
В 1960-х годах во время «хрущевской оттепели» в партийных документах и научной литературе неожиданно заговорили о «местном самоуправлении», но ненадолго.
Интерес к идее местного самоуправления вернулся в 80-х годах прошлого столетия.
Это началось во времена В. Андропова, который решил навести в стране порядок. Тогда некоторые представители партийной бюрократии неожиданно стали требовать усиления ответственности местных органов власти за комплексное, сбалансированное экономическое и социальное развитие территорий.
В 1985 году советский народ в большинстве своем поддержал М. Горбачева, который, став Генсеком, вдруг объявил «гласность и перестройку в системе органов управления».
Народ поверил молодому партократу, потому что искренне понадеялся, что с помощью гласности будут уничтожены льготы и привилегии представителей партийной и государственной власти.
XXVII съезд КПСС (1986 год) окончательно возродил идею о местном самоуправлении и определил стратегию развития социалистического самоуправления народа.
На предприятиях государственного сектора экономики рабочим разрешалось создавать советы трудовых коллективов и избирать директоров предприятий. В связи с этим, думали советские люди, в Публичной власти господствующее место займет горизонтально-территориальная система советской власти, а не вертикально-отраслевая система партийной и государственной власти.
На первом этапе Перестройки объективно и целенаправленно законодательная работа пошла именно в эту сторону.
В июне 1987 года Верховный Совет СССР принял Закон «О государственном предприятии (объединении)».
В пункте 1 статьи 6 было четко записано: «Управление предприятием осуществляется на основе принципа демократического централизма, сочетания централизованного руководства и социалистического самоуправления трудового коллектива».
А пункт 5 этой же статьи гласил: «Основной формой осуществления полномочий трудового коллектива является общее собрание (конференция). Общее собрание (конференция) трудового коллектива избирает руководителя предприятия, совет трудового коллектива, заслушивает отчеты об их деятельности».
26 мая 1988 года был принят Закон «О кооперации в СССР», которым государственная бюрократическая власть наконец-то отдавала все сельхозпредприятия в руки сельских и поселковых советов, т.е. в подчинение органам местного самоуправления. В стране разрешалось создание коллективных хозяйств (колхозов, артелей, кооперативов и т.д.) на основе коллективной собственности.
Тут необходимо сделать одно уточнение.
По Конституции СССР (1977 года) в стране признавались две формы социалистической собственности: государственная (общенародная) собственность и колхозно-кооперативная собственность. Несмотря на это в стране полным ходом шло бюрократическое преобразование коллективных хозяйств (колхозов) в советские хозяйства (совхозы).
На каком основании?
На том, что некоторые представители партийной бюрократии в конце семидесятых годов прошлого столетия стали смотреть на коллективную собственность, как на буржуазную собственность.
Открываем, например, учебник «Политическая экономия» выпуска 1982 года.
На странице 72 черным по белому написано буквально следующее: «На стадии социализма общенародная собственность на средства производства выступает в форме государственной собственности… Передача общенародных средств производства в собственность отдельных коллективов предприятий означала бы превращение их в групповую собственность, что несовместимо с социализмом и представляет собой ликвидацию его экономических основ… Буржуазное государство представляет собой диктатуру буржуазии, его собственность есть лишь коллективная собственность класса капиталистов, форма капиталистической собственности».
Как видим, уже тогда либерально настроенные бюрократы, проповедующие идею «рыночного социализма» стали вдалбливать в головы советских людей мысль о том, что «коллективная собственность есть буржуазная собственность».
И вот законы «О государственном предприятии (объединении)» и «О кооперации в СССР» опровергали эту антимарксистскую чушь.
Была ли в этих законах разрешена «частнокапиталистическая собственность» и «частная предпринимательская (коммерческая) деятельность», порождавшая в любом обществе антигуманную эксплуатацию человека человеком?
Ответ однозначный: «Нет!».
Этими законами Публичная власть в СССР, в лице бюрократов-государственников возрождала «производственный принцип общинного и городского самоуправления», который, как известно, включает в себя: коллективную и кооперативную (общедолевую) собственность, гражданскую инициативу и свободное от государственной власти развитие хозяйственной деятельности граждан.
Но, освободив местное самоуправление этими законами от попечения со стороны органов государственной власти, Публичная власть не освободила народовластие от партийного давления.
Статья 6 Конституции СССР 1977 года уже гласила однозначно: «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза».
Во время Перестройки, как известно, развернулась мощная борьба за отмену или изменение именно этой статьи Конституции.
Но в самом начале Перестройки споры велись совсем не об этом. Советская номенклатура и советский народ сначала спорили о «формах социализма».
Вопрос о формах социализма возник не на пустом месте. Его сначала поднял Ю. Андропов в своей знаменитой статье «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР».
Советские люди уже тогда почувствовали, что «ленинский социализм», который «построил Сталин по заветам Ленина», в общем-то, несколько отличается от «развитого социализма».
Эту догадку подтвердил и сам М. Горбачёв, который первым публично заявил с высокой трибуны о «ленинской модели социализма» и о «деформации ленинских идей». Однако, в чём суть проблемы никто толком сказать не мог, поэтому все советские люди обратили свой взор на представителей научной и творческой интеллигенции. И те не заставили себя долго ждать.
На страницах газет и журналов, на радио и телевидении, а потом и на съездах народных депутатов СССР началось общественное обсуждение на тему: «На какой стадии развития мы находимся и куда нам надо идти?».
Это обсуждение постепенно перешло в ожесточённый идеологический спор, который достиг своего накала к концу 80-х, когда чётко определились три группы демократов.
Одну группу организовали партийно-хозяйственные демократы во главе с М. Горбачёвым. В неё вошли такие демократы, как Н. Рыжков, А. Лукьянов, Р. Хасбулатов, Л. Абалкин и др. Точку зрения этих демократов на путь развития страны выразил сам М. Горбачёв на 19-й партконференции. Выступая на ней, он сказал:
«Да, мы отказываемся от всего того, что деформировало социализм в 30-е годы и что привело его к застою в 70-е годы. Но мы хотим такого социализма, который был бы очищен от наслоений и извращений прошлых периодов и вместе с тем наследует всё лучшее, что рождено творческой мыслью основоположников нашего учения, что воплощено в жизнь трудом и усилиями народа, что отражает его надежды и чаяния. Борьбу с бюрократизмом в общественной и политической жизни надо вести через неустанное углубление демократии, широкое развитие форм социалистического самоуправления, возвышения и укрепления власти советов».
Экономический путь развития наметил Л. Абалкин, возглавивший к тому времени Государственную комиссию по экономической реформе: «Путь в завтрашний день – это путь развития многообразных форм собственности, становление социалистического рынка, переход к региональному хозрасчёту». (Цит. по кн. «Прорыв в демократию» М.,1990, стр.252).



