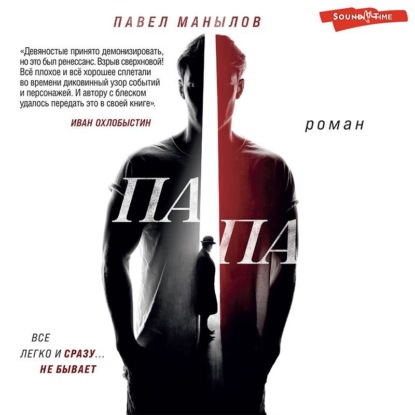Полная версия
Подлинная история Любки Фейгельман
Глава шестнадцатая. Последнее и первое
Мне пересказал,что ты загуляла —лаковые туфли,брошка, перманент.Что с тобой гуляетРозовый, бывалый,двадцатитрехлетнийтранспортный студент.Я еще не видел,чтоб ты так ходила —в кенгуровой шляпе,в кофте голубой.Чтоб ты провалилась,если все забыла,если ты смеешьсянынче надо мной.Не было никакого транспортного студента. Ручаюсь: не было, тем более бывалого, двадцатитрехлетнего. После Цфасмана Любка на такого и не посмотрела бы – не то чтобы с ним загулять. Кенгуровая шляпа была – до сих пор ее помню: Любка загибала на ней поля и носила ее чуть-чуть набок, но не вульгарно, а с изяществом. Лаковые туфли тоже были, но еще тогда, когда Любка гуляла со мной. Голубую кофту я ей подарил на день рождения. Со студентом же, повторяю, поэт все придумал, поскольку не мог же он написать, что за Любкой ухаживал сын Сталина.
О таком не пишут и вообще помалкивают, если ума хватает. Вон Цфасман и тот затих, Любку приглашал к себе все реже, а затем и вовсе исчез – слава богу, не сгинул, как отец Любки, но перестал обучать ее джазовому пению, и стук метронома уже не отсчитывал затягивающиеся паузы в их занятиях. Звезды эстрады из Любки так и не вышло, и Элла Фицджеральд так и осталась единственной, сияющей на горизонте мирового джаза.
Зато Любка стала любовницей Василия Сталина. Мне горько, гадко, противно об этом упоминать, но что поделаешь: Любка и любовница – слова-то родственные, и корень у них общий – любовь. И она любила, была восторженной обожательницей своего Васи, все ему прощала, лишь бы лишний раз на нее взглянул. Отсюда и перманент, сделанный в кремлевской парикмахерской, и золотая брошка с блестящими камушками – не бижутерия, нет, хотя Любка была бы до смерти рада и бижутерии, но сын Сталина дарил все настоящее. Отсюда ночные кутежи, на которые он ее возил и иногда лишь утром вспоминал о том, что надо бы разыскать и вернуть…
Обо всем этом я рассказывал поэту, надеясь, что он напишет. Но тот замазал мой рассказ и вместо Василия Сталина пришлепал какого-то студента. У меня на это ума не хватило, и я порывался написать письмо вождю народов с жалобами на его сына. Хорош бы я был! Слава богу, что меня отговорила… Любка. Отговорила в последнюю нашу встречу, заметив, что я пишу, прикрывая рукой, длинное послание.
– Кому это? – спросила она, стараясь отгадать по движению моей руки и старательно выведенным прописным буквам адресата письма.
– Пассионарии Долорес Ибаррури.
– Не дури.
– Я не дурю.
– Скажи честно, кому? Сталину?
– Ну, Сталину.
– Жалуешься?
– Ну, жалуюсь.
– На что?
– На то, что ты закрутила…
– Ах вот как! Тогда знай: я закрутила роман с Василием Сталиным ради того, чтобы выпустили из тюрьмы отца. Только ради этого.
– Но его любишь, своего Василия?
– Да, люблю. Так получилось. Люблю, – виновато, сбивчивой скороговоркой ответила Любка.
Ответила каким-то не своим, глуховатым, враждебным мне голосом.
– И ты себе веришь? – спросил я так, словно это было последнее, что я хотел у нее узнать.
– Верю, – ответила Любка, словно это было первое и самое главное, чем она собиралась закончить наш разговор.
Глава семнадцатая. ВОВ
(эпилог)
Вспомни, как с тобоювыбрали обои,меховую шубу,кожаный диван.До свиданья, Люба!До свиданья, что ли?Все ты потопила,Любка Фейгельман.Я уеду лучше,поступлю учиться,выправлю костюмы,буду кофий пить.На другой девчонкея могу жениться,только ту девчонкутак мне не любить.Ну вот и все. Конец фильма – оборвалась кинолента с кадрами, и остался один экран, белая простыня, натянутая на гвоздиках. До обоев, меховой шубы, кожаного дивана дело не дошло, хотя нам нравилось разыгрывать семейную пару, присматривающую мебель, одежду и обои для будущей квартиры.
Но и это было лишь плохонькое кино…
Будущая квартира… где мы смогли бы жить? У меня с моей сумасшедшей матерью? У Любки, где спотыкались бы о чемоданы ее вечной родни, приехавшей погостить, и дрались за очередь в ванную?
Впрочем, я был на все согласен, лишь бы… лишь бы Любка вернулась ко мне и все было по-прежнему.
Но письма Сталину с жалобой на его сына я, конечно же, не написал. Вместо этого я попытался по-мужски объясниться – о безумец! – с кем? С сыном вождя… полубога, но меня к нему и близко не подпустили… Впрочем, я опять повторяюсь.
С войной же смешно получилось. Ничего смешного, конечно, не было, но все-таки смешно. Смешно, хотя и жутко.
У нас во дворе был такой Вовка Овчинников с седьмого этажа, которого все звали ВОЛОДЬКА, ВОВЧИК, почему-то ВОЛЬДЕМАР или даже для краткости ВОВ. И так вышло, что ВОВ – это оказалась ВОЙНА. Такое совпадение. И из-за этого несчастного совпадения Вовку первым убили на фронте: его мать еще в начале июля получила похоронку.
После этого во дворе, на стене дома, по которой мы недавно лупили мячом, я написал мокрым от дождя, выскальзывающим из рук мелом: «Все ушли на фронт», и это была сущая правда. Весь наш двор, включая Любку, записался в ополчение. Кто-то хотел отомстить за ВОВа, кто-то – совершить подвиг. Любка же, как дочь репрессированного, записываясь, надеялась исправить себе биографию. Тогда подобное случалось: в ополчение добровольно (или добровольно-принудительно) шли дети шпионов, вредителей, троцкистов, бухаринцев – словом, врагов народа.
Шли в надежде, что они смогут искупить, что им простится…
Вот и Любка ушла и не вернулась. И рулоны купленных нами обоев, меховая шуба и кожаный диван пылятся в углу ее комнаты… Впрочем, я заговариваюсь, забываю, что сказал, и говорю совсем не то…
Отца Любки, русского Фойгельмана, освободили из тюрьмы, и он вернулся домой. То-то порадовались и в его семье, и во всем нашем дворе. Да я и сам порадовался, хотя после гибели Любки и радоваться-то разучился.
Правда, когда по своей привычке я начинаю забывать, о чем сказал, заговариваться от горя и повторяться, выходит совсем другое: не освободили, а осудили по статье. Приговорили к сроку без права переписки и расстреляли на Бутовском полигоне.
Но Любка до самого конца верила, что отец вернется, поэтому первое слово дороже второго, как говорили, да и сейчас говорят, у нас во дворе.
Все-таки не расстреляли, а освободили. Все-таки… все-таки…
Вот такая история Любки и ее семьи – история подлинная и мною удостоверенная. А стихи… стихи были, есть и дай Бог, чтобы никогда не исчезали – тем более стихи таких поэтов, как автор этого стихотворения, советский, но честный, умевший прикидываться чудаком.
Только с той девчонкойя не буду прежним.Отошли вагоны,отцвела трава.Что ж ты обманулавсе мои надежды,что ж ты осмеялалучшие слова?Стираная юбка,глаженая юбка,шелковая юбканас ввела в обман.До свиданья, Любка,до свиданья, Любка!Слышишь?До свиданья,Любка Фейгельман!Не слышит, а поэтому не до свиданья, а прощай.
Ван Клиберн – первый шармер
1
Весной пятьдесят восьмого года в нашей семье что-то произошло. Мы сами не знали, что именно, и терялись в догадках, чем вызвано это смутное и неопределенное чувство: что-то!.. Слава богу, никто не заболел, и не случилось другого несчастья – из числа тех, коих все суеверно страшатся, взывая к судьбе: пусть свершится что-нибудь плохое – лишь бы не самое худшее. Так же и счастливых событий мы не могли назвать, чтобы особо радоваться той весне.
Весна как весна – с оттепелями и распутицей, грачами, загнанными до бессильного изнеможения ненасытными утробами их желторотых птенцов, угловато торчащими ребрами осевших сугробов и мутной талой водой в трамвайных рельсах.
Бывает лучше, бывает хуже, а эта – по всем статьям самая обыкновенная весна.
Разве что в Москве – после памятного всем фестиваля предыдущего года (фестиваля молодежи и свободной любви) – открылся конкурс Чайковского. Но это событие к числу семейных никак не причтешь. Правда, в семье у нас все музыканты и поэтому к подобным конкурсам относятся с известным пристрастием. Но, право, не настолько же, чтобы болеть и переживать, как будто конкурсанты – даже кумиры и любимчики из их числа – нам близкая родня.
Впрочем, Россия тем и удивительна, что в ней и такое бывает: достаточно вспомнить козловисток и лемешисток тридцатых годов, помешанных на своих кумирах. Но тридцатые годы давно прошли, козловистки и лемешистки стали бабушками или успокоились от своих страстей под могильным камнем, и что о них вспоминать…
И тем не менее в нас явно произошла какая-то перемена. Хотя могло показаться, что решительно ничего не изменилось, поскольку никаких внешних признаков какой-либо перемены не было. А если и были, то настолько незначительные, пустяковые – даже ничтожные, что о них и упоминать не стоило.
Поэтому на обычный праздный вопрос: «Как вы поживаете?» – мы могли с полным правом ответить, что у нас все по-прежнему (тогда еще не по-Брежнему, а по-Хрущеву).
Но при этом каждый из нас чувствовал: в нашей жизни что-то сдвинулось, тронулось, как лед на весенней Москвереке, обновилось, и мы уже не те, что были раньше. Чувство – из разряда странных, загадочных и необъяснимых, посещающих нас в редкие минуты. К примеру, вот моя рука, такая же, как всегда, с неровно подстриженным ногтем и ранкой на пальце, тронутой йодом. Но в то же время эта рука словно бы принадлежит не мне, а кому-то другому, я же лишь смотрю на нее со стороны – холодным взглядом анатома, собирающегося ее заспиртовать и выставить для всеобщего обозрения.
Вот и мы испытывали нечто подобное, но не по поводу одной руки, а по поводу самих себя целиком, прежних и в то же время обновленных.
Естественно, мы эту метаморфозу не обсуждали – тем более за обедом, когда привычно болтали о пустяках, дурачились, смеялись и что-то друг перед другом изображали. Но и вдвоем с матерью, отцом или сестрой (сестра играла на флейте) мы молчали о своем странном чувстве. Мы не решались в нем хотя бы намеком признаться и лишь подавали друг другу некие загадочные, с трудом прочитываемые знаки.
Самым загадочным был знак, выражавшийся в том, что именно мы на досуге тихонько помыкивали, мурлыкали, напевали.
Мы не были прирожденными вокалистами, наши голоса не годились для Большого театра. Наверное, поэтому каждый из нас обычно что-то напевал себе под нос. Отец любил нечто бетховенское – сродни тому, что исполнял его квартет на сцене Малого зала консерватории; мать предпочитала французский шансон, сестра – чувствительные романсы, а я так просто чижика-пыжика или что-то в этом роде.
Но летом пятьдесят восьмого наши пристрастия неожиданно совпали, и мы все стали напевать: речка движется и не движется… трудно высказать и не высказать. Иными словами, «Подмосковные вечера», которые в нашем исполнении приобрели и нечто бетховенское, и нечто от романса, и даже что-то от моего чижика-пыжика.
Во всяком случае, я, будущий альтист, посещавший класс общего фортепиано (таким образом, наша семья – подобно семейству Баха – могла составить целый оркестр), пытался воспроизвести «Вечера» на пианино, подобрав к ним аккомпанемент и не удержавшись от соблазна придать этой простой мелодии немного виртуозного блеска – совсем как мой кумир, но не Лемешев и не Козловский, разумеется… Впрочем, его имя я назову чуть позже.
Но был и еще один знак, подаваемый нами друг другу. В каждой семье есть свои прибаутки, присказки, часто – на разные лады – повторяемые веселенькие фразы, иногда выдуманные, иногда заимствованные из отечественной словесности и слегка переиначенные – вроде «Аркадий, не говори красиво» или «Давненько не брал я в руки синхрофазотрон». И вот летом пятьдесят восьмого Аркадий с синхрофазотроном (до сих пор имею самое смутное представление, что это такое) куда-то бесследно испарились, а вместо них в нашем семейном обиходе появилась фраза: «Я вас лублу».
Эту фразу мы повторяли с утра до вечера, настолько она всем нравилась и трогала нас до слез. Мы изливали в ней лучшие свои чувства, особенно налегая на букву у, заменявшую ю и придававшую нашему произношению очарование англо- (американо-) язычного акцента.
Теперь самое время признаться в том, о чем читатель наверняка уже догадался. Фразу «Я вас лублу» первым произнес Ван Клиберн, победивший на конкурсе Чайковского. Он же первым в Большом зале консерватории исполнил «Подмосковные вечера», чем окончательно сразил не только публику, но и жюри конкурса, коему тоже оказались свойственны простые человеческие чувства. На каждого мудреца, как говорится…
Именно сразил наповал, хотя ни публика, ни авторитетное (слава богу, не авторитарное) жюри и не подозревали, что против них было применено новое сверхсекретное оружие, привезенное обаятельным Ваном Клиберном в Москву вместе с нотами. Нет, их не зомбировали, не чипировали, ими не манипулировали, в конце концов: до всех этих дьявольских ухищрений еще было далеко. Но весь убийственный фокус заключался в том, что их с ангельской невинностью чаровали и шармировали, они же против этого оружия были совершенно беззащитны, как, впрочем, и сам Ван Клиберн.
Оружие было направлено и против него. С триумфом завоевав первую премию на конкурсе, он не стал сколько-нибудь выдающимся пианистом – таким, как Артур Рубинштейн, Владимир Горовиц или Глен Гульд. На конкурсе, правда, его сравнивали с Рахманиновым, в чем особенно преуспел старик Гольденвейзер, игравший когда-то Льву Толстому. Но позднее Клиберн признавался, что чувствовал себя гениальным только в Москве – благодаря доверчивой, самоотверженной, жаждущей восторженных переживаний русской публике и созданной ею атмосфере культа и поклонения.
Словом, козловистки и лемешистки проснулись, подняли могильный камень и вышли из гробов наружу, чтобы снова безумствовать, кликушествовать и предаваться своим страстям.
2
Как я уже мимоходом обмолвился, мой отец играл на виолончели в квартете. Большой, в темно-коричневом фраке, с галстуком-бабочкой из черного бархата, седыми висками, как у академика или швейцара дорогой гостиницы, розовым глянцем, скользящим по профессорской лысине, он всегда сидел с краю. Сидел, близко склонив к себе виолончель, и водил смычком, перехватывая пальцами струны так, как ловкий портной перехватывает ткани на клиенте, намечая мелком контуры будущей выкройки.
Мать преподавала сольфеджио в Гнесинской школе и, рисуя на доске пять линеечек, с особым удовольствием повторяла: «Прошу запомнить, это нотоносец или нотный стан». При этом нотоносец имел все шансы уподобиться броненосцу, если бы ноты в ее написании не напоминали картофелины и таким образом не внушали крамольную мысль, что броненосец – вместо того чтобы носить броню – возит в трюмах полусгнившие, тронутые плесенью овощи.
У матери были большие связи в околомузыкальных сферах, и она достала мне два билета на Вана Клиберна, коего я мечтал услышать хоть раз живьем, а не по радио. По радио он играл хорошо, но его не было видно, и это вызывало несовпадение того, что я слышал о нем, и того, что я слышал от него. Возможно, я выражаюсь несколько туманно, но суть в том, что радио не позволяло понять, почему все сходят с ума от Вани, как его у нас звали. И я умолял мать достать мне билет на третий тур, чтобы не только слышать, но и видеть Клиберна.
К тому же он попал в Клиберны лишь по глупейшему недоразумению и оплошности первой переводчицы присланных на конкурс заявок (эта дурочка и растяпа даже не знала, как читается буква I в закрытом слоге), а на самом деле оказался Клайберном. И я надеялся, что присутствие на третьем туре позволит мне в полной мере насладиться не только игрой американца, но и сознанием своей сопричастности к тем избранным, кому открыта тайна буквы I в закрытом слоге и истинное звучание божественного имени.
Я не оговорился: Клайберн стал для всех богом – не таким, конечно, как некогда Генералиссимус, попроще и без погонов, но от этого еще более притягательным и вызывающим жажду поклонения.
3
Мать использовала все свои связи (натянула их, как струны арфы, на которой немного играла) и, хотя и с превеликим трудом, билеты все-таки раздобыла. Раздобыла ей одной известным способом, что было почти чудом при творившемся в Москве ажиотаже. Она с элегантной небрежностью подержала их передо мной на безопасном отдалении, как приманку (дразнилку), и тотчас спрятала, тем самым показывая, что просто так они мне не достанутся.
Мать поставила мне условие, соответствовавшее тем мучительным усилиям по натяжению струн, кои ей пришлось затратить, чтобы обеспечить мне два места в двадцатом ряду перед проходом.
Да, именно перед проходом, где я любил сидеть, чтобы мои длинные ноги не упирались коленями в переднее кресло – так, что чуть ли не приподнимали это кресло, словно домкратом. Не упирались и не устрашали тех, кто пытался бы через этот домкрат переступить, пробираясь к своему креслу.
Тут, пожалуй, необходимо пояснить, что я в ту пору неукротимо – вулканически – вытягивался и был баскетбольного роста, носил ботинки сорок седьмого размера, и ни один обмотанный вокруг шеи шарф концом не доставал мне даже до живота.
Условие же матери сводилось к тому, чтобы я, безмозглый акселерат, не приглашал на третий тур Саньку из четвертого подъезда нашего дома (о ней я еще расскажу), а пригласил бы Сашеньку из престижной сталинской высотки. Сашенька, умница, хозяйка, кулинарка, выжимала пенистые соки из апельсинов и собранных на даче яблок, пекла воздушные пирожные, безопасные для фигуры, и обладала множеством прочих достоинств.
Кроме того, она умела сидеть, удивительно прямо держа спину, чему и мне не мешало бы научиться.
На третьем туре должно было определиться, кто победит. Но, по мнению матери (в победе Клиберна она почти не сомневалась), должно было решиться и еще кое-что, может быть, и не столь важное для Клиберна, но важное для меня…
Тут стоит добавить, что мы жили тогда в бывшей Алексеевской слободе, неподалеку от Таганки, высотного дома на Котельнической набережной и той самой горки, которую все, и прежде всего деликатная Сашенька, уклончиво называли Швивой и лишь одна Санька – Вшивой, что, может быть, соответствовало истине, но противоречило нормам благозвучия и правилам хорошего тона.
Мать же всегда выступала за нормы и правила – в отличие от отца. Тот доказывал, что Бетховен никогда не стал бы Бетховеном, если бы придерживался норм и следовал правилам. Мать с ним не соглашалась, всячески ему перечила, внушала, что его Бетховен под конец жизни совсем потерял слух и сошел с ума. И родители вечно спорили, чуть ли не до драки и сотрясения воздуха громогласными заявлениями, что совместная жизнь для них невыносима и теперь они – точно! – разведутся.
Я очень боялся этого точно, старался их успокоить, урезонить и помирить. Хотя и мирить-то не надо было, поскольку, как я теперь понимаю, в этой мере точности выражалась их… любовь. Они ведь еще были молоды, мои родители, хотя казались мне тогда если и не старыми, то, во всяком случае, удручающе пожилыми. И при этом – на редкость ревнивыми и суеверными.
И если я вулканически взрастал и вытягивался, чтобы сравняться ростом с Ваном Клиберном, то их дремлющая лава изливалась друг на дружку. И для матери с отцом важно было не победить в споре и не доказать свою правоту, а лишний раз убедиться, что у каждого из них нет ни малейшего повода для сомнений в любви другого.
При этом они были большими энтузиастами семейных отношений и такими же большими эгоистами, поскольку при всей любви ко мне не особо нуждались в моей ответной любви. В ней они готовы были без конца сомневаться, упрекать меня, что я их совсем не люблю и у меня на уме лишь одни мои глупенькие подружки. Я не старался их разуверить, понимая, что они не могут обойтись без ревности и суеверий и кто-то должен давать для этого хотя бы мнимый повод.
4
Я не случайно упомянул Таганку и высотный дом. Я и сейчас там часто бываю, хотя давно похоронил моих родителей, сестра же вышла замуж за американца и живет в Техасе, на родине Вана Клиберна.
Увы, умер и сам Ван Клиберн. Незадолго до смерти он объявил о завершении своей карьеры и дожил до семидесяти девяти (американцы долго живут), не прикасаясь к роялю и отказываясь сыграть даже для гостей – не потому, что пальцы не слушались. Нет, в душе что-то не повиновалось, и гениальность окончательно сошла на нет вместе с любовью к России.
Санька не дожила и до тридцати девяти. Она вышла замуж за сына нашего дворника, которого когда-то отлупила туфлей, родила, потеряла ребенка из-за недосмотра врачей и погибла, спасая меня в горах, куда нас занесло после того, как я ушел от Сашеньки, с которой прожил десять лет в любви и согласии. Ушел и возненавидел себя, только не знаю, за что – за мой уход или за любовь и согласие, которых я не мог себе простить. Не мог, потому что, любя Сашеньку, все равно любил Саньку, а согласие… Согласие – это не самое важное при том, что есть любовь.
Вот такие сложности, во многом непонятные для меня самого, хотя я и сознаю, что если бы все было проще, то при этом еще непонятнее…
Что еще добавить о себе нынешнем? Я разменял нашу старую квартиру в Алексеевской слободе и справил уже семидесятый день рождения. Я так и не научился сидеть, не горбясь и прямо держа спину, мои ноги акселерата с возрастом стали короче, и размер ботинок уменьшился с сорок седьмого до сорок четвертого.
Но я по-прежнему (некоторое время по-Брежнему, а там по-всякому) похож на отца – тем более что ношу такой же фрак и бабочку, и по моей профессорской лысине скользит, отсвечивая под лампой, розовый глянец. Я тоже играю в квартете, но не на виолончели, а на альте и поэтому сижу ближе к центру, рядом со скрипкой.
Я недолгое время прожил на Соколе в поселке художников, за высоким слепым, без единого просвета между досками забором. Но затем понял, что этак и сам ослепну, и теперь живу на Таганке.
Меня потянуло в нашу прежнюю Москву, тем более что Таганка и Котельники напоминают мне о том времени, когда у нас победил Ван Клиберн (а вместе с ним Америка) и я был в него влюблен, а заодно и в нее – некую прекрасную, идеальную, выдуманную мною незнакомку, которая причудливым образом раздваивалась для меня на Саньку, называвшую Вшивую горку Вшивой, и Сашеньку, по своей деликатности предпочитавшую другое название – Швивая.
5
Однако вернусь к моей истории, в которой – несмотря ни на что – еще не поставлена точка. Да и вряд ли будет поставлена…
Итак, ради того чтобы попасть на третий тур, я был вынужден принять условие матери и пригласить Сашеньку. Саньке же я ничего не сказал – скрыл от нее свой поступок в надежде, что она ничего не узнает. Да и как она может узнать! Так я себя успокаивал, но при этом не учел, что отец отнюдь не одобрял махаонции (его словечко, заменяющее, по-видимому, махинации) с билетом.
Махаонции за спиной у Саньки, поскольку отец знал, как я люблю ее – знал хотя бы потому, что и сам в мои годы так же влюблялся. Мой поступок казался ему предательством Саньки, а заодно и Вшивой горки, о которой он читал, что это ее подлинное название, стыдливо измененное впоследствии ради ложно понятого благозвучия.
Мать же смотрела на все иначе. По ее мнению, то, что мне было четырнадцать лет, не позволяло сравнивать меня с отцом, поскольку он в мои годы уже встретил ее и влюбился – с первого взгляда и на всю жизнь. Я же, как считала мать, влюблялся во всех подряд, что давало ей законный повод считать меня неуправляемым.
Особенно моя неуправляемость проявлялась в том, что я мог увлечься Санькой, этой, по мнению матери, сущей разбойницей, сорви-головой и кошмарным наваждением, от которого страдал и плакал горькими слезами весь двор.
Санька носила драную тельняшку, лупила мячом по окнам и сохнущему белью и водилась со всякой шпаной. Она лазала по голубятням и играла на деньги в расшибец и пристеночку. Эти игры постепенно выходили из дворовой моды с приближением шестидесятых годов, но у нас в Алексеевской слободе долго еще сохранялись.
Сохранялись – во многом благодаря Саньке, ее азарту и выигрышам, кои она великодушно возвращала проигравшим.
При этом Санька так же ловко играла на трофейном аккордеоне томную «Рио-Риту» и прочий довоенный шлягер. Но мать утверждала, что «Рио-Рита» – это вульгарная пародия на французский шансон. К тому же Санька подбирала ее по слуху, с элементарными ошибками в гармонии и голосоведении.
Словом, она по всем повадкам была сущим воплощением Таганки, как утверждала моя мать. Была независимой, вызывающе дерзкой и эпатажной, что безумно нравилось мне, но, конечно, не могло нравиться матери, хотя отец с ней не соглашался и утверждал, что Саньке он почему-то верит больше, чем другим – тем, кто умеет лишь расположить к себе и использовать это ради собственной выгоды.