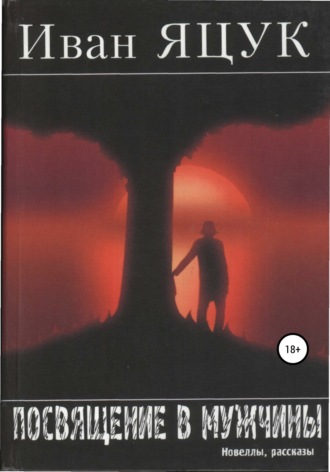
Полная версия
Посвящение в мужчины
В то время мы увлекались ездой на велосипедах. Я проявлял дьявольскую изощренность и фантазию, прельщая друзей выгодами езды на Мельницы. Мы гоняли по улицам с лихой отвагой и шиком.Однажды проносясь на велосипеде «без руля», я заметил, как во дворе дома, что мне приглянулся, мелькнуло знакомое голубое платье в белый горошек. От замешательства меня всего дернуло, руль повело, и я едва не врезался в дерево. Зато теперь мне было известно, где она живет…
В тот вечер после неторопливого обхода я с Мишкой присоединяемся к группе таких же подростков с нашей улицы. Я несколько раз приглашаю на танец Галю, мою соседку и подругу в детских играх. С ней танцуется легко и свободно, я непринужденно болтаю о всяких пустяках. Галя, наоборот, неожиданно для меня немного стесняется.
– А ты хорошо водишь,– однажды хвалит она меня.
– Да?– удивляюсь я невнимательно.
Она утвердительно кивает, не поднимая лица.
Мишка в это время скромно уходит в шумную толчею зрителей, окружающих танцплощадку. Он еще не умеет танцевать, и ему неловко. Несколько раз в просветах между парами мелькает его красная рубашка. Время от времени он наведывается к нам и снова исчезает. В одно из таких явлений Мишка с физиономией заговорщика сообщает мне:
– Светка, кажется, одна.
Когда до сознания доходит смысл Мишкиных слов, меня даже передергивает от нервного озноба.
– Ну и что? – отвечаю я, заикаясь,– ты же меня знаешь … я не готов …
– Не дрейфь, вздыхаешь, как кисейная барышня,– сам возбуждаясь, настаивает Мишка.– Если бы мне кто так нравился , я уже б давно … – Мишка врет, он больше других боится девчонок, но все равно его слова раззадоривают меня.
– Вообще–то можно … – размышляю я вслух, холодея от мечтательного восторга и собственной немыслимой смелости.
Мы отходим от своей группы, выбираем удобное место, откуда можно незаметно наблюдать за Костриковой. На Светлане темное короткое платье колокольчиком, плотно облегающее ее. Впереди узкий треугольничек выреза, слегка обозначающий начала груди. В том , как она говорит, улыбается, как вдруг в каком-то ветреном удивлении оборачивается к подруге, не обнаруживается и тени жеманства, пошлой манерности, которой я терпеть не мог и которую распознавал с почти болезненной чувствительностью.
– Ну давай, лети,– то и дело толкает меня Мишка, когда ставят новую пластинку. Ему не терпится узнать, что из этого выйдет.В моей решимости он сам надеется набраться духу, чтобы порвать с детством.
– Подожди ты,– нервно отмахиваюсь я,– дай подумать,– хотя точно знаю, что никогда в жизни не решусь на такой отчаянный шаг. Но с другой стороны, что-то во мне восстает против такой фатальной определенности, я злюсь на себя и сам себя подбадриваю.
Народа на танцы собралось меньше обычного. Говорили, что помешал международный матч по футболу. Несколько раз мы приближаемся к стайке девчат, где стоит Кострикова. Вместе с подружкой она держится особняком. К ним подходят парни, но долго не задерживается. Света выглядит грустной, беспокойно оглядывается по сторонам, ищет глазами кого-то. Однажды я встречаюсь с ней взглядом и замираю от волнения.
Никогда еще меня так не разрывали робость и желание пересилить себя. В нервном изнеможении смотрю в роскошную, чарующую ночь. Надо мной висит огромное, черного бархата небо в цирковых блестках звезд. Чернота его клубится почти у плеч танцующих. Желтоватый, какой–то кащеев свет фонарей, полет ночных бабочек, возникающих из ниоткуда, музыка, столпотворение людей на клочке земли – все создает ощущение нереальности происходящего, какой-то дивной сказки, где я – Иван-царевич. В голове мельтешит одна и та же мысль: «сегодня или никогда. Ну сделай это, прошу тебя. Это же так просто и продлится всего несколько минут». Разум приказывает, а тело не хочет подчиняться, ноги налились чугуном, сердце заходится от бешеного ритма.
И вдруг я, деревенеющий от внутренней скованности и зажатости, в какой-то миг отрываюсь от Мишки. Это кажется бредом… но… но я иду к ней. Еще не верю в свое безрассудство, еще готов в любое мгновение свернуть в сторону и с облегчением отдышаться. Но эта возможность сдаться заставляет меня упрямо идти вперед, иначе я буду ненавидеть себя.
Подружка Светы, а потом и она сама заметили мое движение. Оно теперь понимается однозначно – все пути назад закрыты. Я не сворачиваю, собираю себя в кулак настолько, что мой голос почти не дрожит, когда я церемонно приглашаю Кострикову на танго. Впрочем, я почти не слышу своего голоса, я его лишь чувствую; все окружающее как будто наплывает на меня, теряя четкие контуры. В такие минуты не разум управляет человеком, а что-то независящее от него, составляющее сердцевину, фундамент твоего «я», и чего нельзя изменить, как бы тебе этого ни хотелось.
Света, помню, быстро взглядывает на меня, словно удивляясь чему-то или сомневаясь, потом спокойно идет в круг, слегка склонив голову в какой-то женской обязательности. Пока мы идем на середину площадки, сердце мое стучит, как молот, в ушах больно отдает глухими, судорожными толчками кровь. Не зря молодым дается крепкое здоровье: старикам уже не выдержать таких нагрузок. Но где-то далеко-далеко в лабиринтах сознания уже рождается несмелая музыка победы над собой.
Все происходит, как во сне. Тело мое ничего не весит – я его не чувствую, запахи не воспринимаются, перед глазами – плоская пленка с людьми, деревьями, небом. Пальцы помнят скользкое шуршание шелка – это рука, не выдерживая напряжения, иногда ищет опору и ложится на платье. Тогда я чувствую тугое тело Светы, его нервную, живую теплоту; все остальное время моя рука едва касается шелка. Еле– еле передвигаюсь ватными ногами, боясь нечаянно обнаружить свое существование. Но ветер-изверг, как будто издеваясь надо мной, вдруг гладит мою щеку прядью ее волос. Вот они, эти пахучие завитки, отдающие вороненным тусклым блеском, такие реальные, такие дурманящие, что вновь заходится сердце, лицо горит, и мысль только об одном– скорее бы все это кончилось. «Потом, потом» – подавляю я в себе все прочее, что сумбурно ворочается в мозгу.
Мы почти одного роста. Ее лицо против моего. Несколько раз ловлю на себе ее испытующий взгляд и вновь пылаю пожаром. Пучки волосков на моем подбородке терзают меня, как мученика на дыбе. Слегка увожу голову в сторону в наивной надежде, что она не увидит этого пушка, юношеской сыпи, каменной немоты губ. Чувствую на лбу влажный холодок испарины. «Наверно, блестит»– думаю с ужасом.
Но вот пластинка кончилась. Провожаю Свету под парадный марш гигантского оркестра, звучащего во мне. Он дует в свои трубы ликующе и торжественно, достигая таких высот, до каких вряд ли когда поднимался потом, хотя случались в моей жизни много других счастливых минут.
Обсуждения с Мишкой, конец танцев, как шел домой – все уложилось в один миг прошлого. Помню себя в саду около полуночи, упавшего на кровать в счастливом изнеможении и разметавшегося, как в горячке. Переживать происшедшее не оставалось больше сил.
Вокруг тишина. Где-то глухо лают собаки то в одном, то в другом конце поселка, усиливая чувство безлюдности и полуночного покоя. Долго лежу с открытыми глазами, глядя в никуда. Потом поворачиваюсь набок и в просвете между ветками наблюдаю темную бездну неба. Никогда прежде не видел такого удивительного, чудного месяца! Огромный светящийся диск в безгрешном, без единого облачка небе. Блестит – смотреть больно. Как величав, как единственен! Деревья, дома, дорожки сада – все залито, все купается в этом море серебряного света. Мне видится – я похож на этот расцветший, в полной силе месяц.
Отдохнувший мозг потихоньку возвращает меня к действительности и нашептывает о подспудной работе, которую он проделал, пока я витал в облаках. Приходит сознание того, что Света намного старше меня в понимании жизни и в потребностях. Я ничего не могу ей дать и предложить, кроме сумбурных, до конца неоформившихся движений моей души, раскрывающейся, подобно утреннему цветку, навстречу огромной, восхитительной жизни. Спасибо тебе, Света, за все – за все, за то, что благодаря тебе, я вырос из детства, преодолел планку, поставленную выше головы. А теперь прощай, моя девочка, моя мечта, мои грезы…я не знал бы, что делать с твоей взаимностью, даже если бы она вдруг возникла…
Высоко поднимаюсь в кровати, шарю рукой в густых листьях, пока не натыкаюсь на влажный, холодный ком большого яблока. С хрустом и наслаждением вгрызаюсь в тугую, ароматную мякоть; губы липнут от сладкого сока. После него еще больше хочется пить. Иду по узкой садовой дорожке во двор, где у нас колодец. Огромная моя тень забегает вперед, делая меня великаном. Ворочается Буран возле своей конуры, давая понять, что он начеку. Мягко звенит железная цепь, поскрипывает барабан. Жадно припадаю к мокрому ободу ведра. После воды становится зябко. Опять возвращаюсь в сад, укладываюсь теперь уже основательно, до утра. Медленно плывут перед глазами картинки прошедшего дня, затем уходят в небытие, и остается лишь ощущение испытанного счастья.
Венгерская рапсодия
До армии я занимался музыкой, книгами и математикой. Можете представить самочувствие такого юноши, когда после неудачного поступления в Московский университет, его вызвали на медкомиссию в военкомат, послушали сзади и спереди, постукали, повертели так и эдак и сухо вынесли вердикт: «Годен к строевой». После этого, не спрашивая, нагнули шею, оболванили «под Котовского» и приказали сидеть дома. Повестка не заставила себя долго ждать: светлым сентябрьским утром я, как было сказано в бумаге, «с вещами» явился на призывной пункт.
Все два с половиной года, проведенные в армии, я находился в каком-то оцепенении, в состоянии ежика, выставившего дыбом все свои иголки против лисы, что пытается перевернуть этого самого ежика мягким брюхом кверху. Все, что составляло мое духовное «я», пришлось спрятать поглубже от постороннего взгляда, от грубых, бесцеремонных прикосновений армейского быта и порядков. Меня строили, водили, учили чему-то; я безропотно подчинялся, поворачивался, ходил строевым шагом, бегал, ползал по-пластунски, стрелял по учебным танкам из гранатомета, который мне вверили по должности, пел строевые песни, ходил в столовую– в общем, был хорошим солдатом, даже комсоргом роты. Но в свободное время я был рассеян, отрешен от всех, впадал в задумчивость, уходил мыслями в такие дали, из которых меня мог возвратить только строгий голос команды: « Подъем, отделение, стройся!». Мираж, который постоянно стоял передо мной, исчезал, как изображение в выключенном телевизоре, и я вновь был солдатом. Толя Сергиенко, мой земляк и товарищ по взводу, показывал на меня пальцем и говорил со смехом окружающим: «Увидите, на гражданке, он точно когда-нибудь попадет под машину», на что я не обижался, а только сдвигал плечами и продолжал размышлять о своем или что-то писать.
С детства я был светлым человеком и старался отринуть все темное, злое, некрасивое, жестокое. Я не любил темноты, я не любил кладбищ, похорон, калек, нищих, не любил наблюдать ссоры, свары, драки, не участвовал в издевательствах над животными, не любил смотреть, как убивают даже курицу. Зато я любил Моцарта и Шопена, любил слушать духовой оркестр в парках и по радио, любил смотреть и участвовать в парадах и смотрах, меня вдохновляло, как человек помогает человеку, одно словосочетание « они спешили на помощь» вызывало у меня телесную дрожь и мурашки по коже; когда я участвовал в команде, меня было полтора человека, я мог подвести себя, но команду– никогда. Когда я читал, как Пересвет выходил на бой с Челибеем, как спешили на помощь Москве сибирские дивизии, слезы выступали у меня на глазах, и я готов был тут же без колебаний отдать свою бесценную жизнь за свободу и независимость родины. У меня всегда были несколько восторженные, мечтательные глаза, я всегда ходил с чуть приподнятой головой, и при знакомствах люди, причисляющие себя к провидцам и знатокам жизни, говорили, что я, должно быть, пишу стихи. Стихи я не писал, но всегда их любил. Такого солдата получила суровая, жесткая, не склонная к сентиментам наша армия в моем лице.
Попал я в Южную группу войск, что квартировалась на территории Венгрии. Когда на сортировочном пункте сказали: « Музыканты, два шага вперед!», я вышел, рассчитывая на лучшую долю. Нас, музыкантов, равномерно распределили по дивизиям и полкам. Однако, в том военном городке, в который я прибыл, в музыкальный взвод нужны были только трубачи. Так мне досталось трубить со своим баяном в мотострелках – самое тяжелое, что есть в наших славных войсках, наземных, подводных и воздушных.
К моему счастью, старшина нашей мотострелковой роты оказался страстным любителем баяна; в его каптерке их стояло аж два. В свободное от занятий время он просил поиграть или пиликал вместе со мной. Взамен я меньше страдал от своей задумчивости и рассеянности. Особенно меня донимало каждодневное бритье. Щетина лезла из меня немилосердно. Некоторые из нас брились один раз в неделю. Мне же приходилось бриться чуть ли ни ежедневно. Орудием казни выступал станок с лезвием «Нева», которое было в несколько раз толще лезвий «Спутник» или «Ленинград», что были в моем распоряжении «на гражданке». Горячая вода отсутствовала, в результате такого бритья я выходил из туалетной комнаты похожим на подследственного после допроса в камере НКВД. К тому же я знал, что чем чаще бриться, тем быстрее будет расти щетина. Дома я сперва брился раз в две недели, потом раз в неделю, потом через три дня. Последний график я надеялся сохранить и в армии. Но не всегда получалось. Бывало, на утренней поверке остановится против меня старшина и долго изучает мой пушок, потом тяжело пройдет дальше, а вечером в каптерке буркнет:
–Ты, Соколов, мое терпение не испытывай, понял?
Я молча машу головой.
–Ну да ладно, давай вместе сыграем « То не ветку ветер клонит». У нас в деревне очень эту песню любят. Будешь подсказывать, где я ошибусь.
Часто утром спрашиваю Хабидуллу Касимова, вернейшего моего товарища, поглаживая подбородок:
– Касимов, ну как, сойдет еще на денек?
Он мнется, в сомнении кривит рот, зная, что мне не хочется лишний раз подвергать себя экзекуции, потом говорит:
– Конечно, еще терпимо, но ты же знаешь нашего старшину…
Приходится со вздохом намыливать щеки.
Наш военный городок располагался в пятнадцати километрах от венгерского селения Кишкун-Майша. Мадьяры называли его городом, но по нашим понятиям и меркам это был поселок городского типа, тысяч десять жителей– не больше. И таких жителей, реакция которых непредсказуема. Прошло всего двенадцать лет после венгерских событий 1956 года, когда наши танки грохотали по улицам Будапешта, не разбирая, кто прав, кто виноват. Когда мы по той или иной необходимости проезжали иногда по улицам поселка, то встречали взгляды самые разные: у молодежи– более приветливые, у стариков же– более настороженные, часто с недобрым огоньком изподлобья. Поэтому контакты с местным населением почти отсутствовали, мы сами по себе, они– тоже.
А теперь представьте себе две тысячи молодых, сильных, здоровых парней, собранных воедино. Разве среди такой массы не найдется десяток отчаянных голов– мушкетеров, способных рисковать жизнью ради какой-нибудь местной Констанции Бонасье? Находились.
В километрах десяти в противоположную сторону от Кишкун-Майши стояло неказистое, открытое всем ветрам строение. В этой неприкаянной венгерской хате жила некая вдова с тремя детьми, неизвестно от кого родившимися. Вот сюда время от времени и ныряли наши Дон-Жуаны и Казановы со свертком масла под мышкой или простыней, уворованной с вещевого склада. Риск, конечно, был огромный. Мало того, что надо было за ночь отмерить десять километров туда и десять назад. В случае поимки самовольщика ему грозило до трех лет армейской тюрьмы – дисбата.
Вокруг этой вдовы витали всякие легенды, слагаемые от скуки гарнизонными краснобаями и фантазерами. Однажды, стоя на посту у полкового знамени, я увидел эту «красотку». Ее в который раз вели в штаб полка для выяснения обстоятельств очередной вылазки наших кавалеров. Неопрятная бабенка лет сорока цыганской наружности в каких-то обносках, лохмотьях, с алкогольным, синевато– лиловым лицом, прячущая глаза от многочисленных и жадных солдатских глаз. Боже мой! И о такой женщине ходят цветистые, похотливые истории?! Да пусть бы меня трижды три раза избили, прежде чем я позволил бы себе пожать руку этой кляче. Возможно, зная, куда идет, она специально так «приукрасила» себя, но все равно на стихи и на баллады в любом случае эта вдовушка явно не тянула.
Когда в своей роте я в лицах и красках рассказал о виденном, многие из моих товарищей согласно кивали головой: мол, да, что и говорить, паршивая сучка, не стоит она того, чтобы о ней долго калякать– пока кто-то не выдержал и мечтательно произнес:
– А я бы все-таки попробовал.
И у всех загорелись глаза.
Балагуры говорили, что нам в пищу подмешивают какие-то пилюли, чтобы меньше хотелось, но думаю, что это пустые враки, потому что разговоры о женщинах не прекращались ни на минуту, где бы мы ни были: в дозоре, на стрельбище, на привале, в бане, столовой, перед сном, после сна, в плохом настроении и в хорошем, на гаупт-вахте, на марше– короче, везде. Все завидовали солдатам тех частей, что стояли по венгерским городам. Их отпускали в увольнение, хоть и группами. На проходных этих частей постоянно толпились молодые мадьярки, упрашивая дежурных: « позовите Ваню, позовите, Сережу, позовите Колю, Витю, Юру» с добавлением фамилий. Немало девушек приходили беременными, требовали записать их на прием к командирам частей. Нередко солдаты демобилизовывались, увозя домой новоиспеченных жен. Но еще больше девушек оставались у разбитого корыта. Это вызывало напряжение между воинскими частями и местной властью. Потому обе стороны всячески старались уладить эту деликатную сторону своих отношений к взаимному удовлетворению. Это, конечно, удавалось не всегда. В нашем городке этих проблем не существовало к радости начальства и к великому огорчению солдат.
Служба тянулась так, как ей и положено тянуться – ни шатко ни валко. Я даже думать не хотел о времени, потому что представив хоть на минуту, сколько впереди еще этих одуряющих, отупляющих, лучших твоих молодых дней, можно было сойти с ума, идти вешаться или стреляться, что и делали некоторые малодушные солдаты. Не скажу, что у нас была тяжелая моральная атмосфера. Ничего подобного. На удивление, у нас не было дедовщины. Мелкие колкости и шалости «стариков» не в счет. Думаю, что в армии можно обойтись и без дедовщины, если командиры на месте, знают, любят свое дело и солдат.Кормили, одевали нас хорошо, бытовые условия были лучше, чем у многих дома. Сознание того, что мы на чужбине и служим святому делу, согревало нас и поддерживало. Но главная тяжесть моя и других состояла в том, что мы долгое время находились в тесном пространстве военного городка, изо дня в день занимаясь одним и тем же. Понимание того, что это не твое дело и никогда не будет твоим, что уходят сквозь песок бесполезных будней лучшие твои годочки, тяжелым грузом ложилось на душу, бередило сердце.
Но хватит об этом. Пора приступать к главному, ради чего и затеян этот рассказ. Итак, в наш полк приехал новый замполит. Новая метла, новые веяния. Видимо, замполит получил новейшие знания в академии и решил немедленно претворять их в армейскую жизнь. Как я понял, он решительно намеревался сломать полосу отчуждения между братской армией и местным населением. Несколько раз у нас побывали воины Венгерской народной армии, устраивались соревнования по военно-прикладным видам спорта, которые мы выигрывали с большим отрывом. Потом к Дню Советской Армии прошел концерт художественной самодеятельности нашего венгерского поселка. Замполит надумал сделать ответный визит в Кишкун-Майшу, чтобы показать, что советские воины живут не только военной службой. Это не было показухой, хотя и сказать, что культурная жизнь течет в нашем городке широкой рекой, тоже было бы неверно. У нас был музвзвод, который обслуживал торжественные приемы, строевые занятия и парады, был клуб офицеров, где работали всякие кружки; к знаменательным датам готовились концерты. Но, конечно, этого было мало, чтобы выступить перед гражданами другого государства.
Вот здесь-то и вспомнили о моем музыкальном образовании. Я был направлен на смотр всей наличной музыкальной общественности городка. Все, что могло петь, плясать, шутить, говорить по-венгерски было здесь. Как говорили древние: « Мане, текел, фарес»– собрано, подсчитано, разделено. Я, как незабвенный Максим Перепелица, воодушевился в надежде на то, что с гранатометом и «стройся!» будет покончено, если и не навсегла, то надолго. Но через время я понуро вручил командиру роты записку: » по возможности предоставлять рядовому Соколову время для подготовки концерта».
– Отлично,– сказал капитан Бабий,–будем за тебя болеть. С 20.00 до 22.00 тренируйся на полную катушку, дадим стране угля, а?!»
– Так это же свободное время,– промямлил я .
– А когда же ты хотел?– уже строго спросил Василий Петрович.– Другого времени у нас нет.
Зато старшина открыто ликовал.
– Представляешь, ты один от нашего батальона. Девятая рота себя еще покажет!– где и девался его апломб старшины. Он с мальчишеским восторгом потрясал кулаками в воздухе.
– Что они у тебя отобрали?– спросил старшина.
– Вариации на тему русской народной песни « во саду ли в огороде» и «Чардаш».
– Не дрейфь,– подбодрил он, видя мое кислое лицо, и подмигнул,– что-нибудь придумаем.– И тут же, опомнившись, одернул гимнастерку и сухо добавил:
–Но чтоб к тебе никаких замечаний, особенно по внешнему виду.– и погрозил пальцем.– ни-ни.
«Что-нибудь придумаем» состояло в том, что старшина убедил командира роты, что рядовой Соколов имеет отличную выправку и прекрасно владеет строевым шагом, а потому временное отсутствие его на строевых занятиях не нанесет вреда боевой подготовке. А ему, старшине, надо кое-что сделать в каптерке, и рядовой Соколов, как нельзя лучше, подходит для этой цели.
– Смотри у меня,– ответил Василий Петрович, все понимая,– если он хоть на секунду запнется или как-то иначе запартачит, будешь сам дополнительно маршировать. Понятно?
– Понятно,– с готовностью ответил старшина, а потом хитро добавил:– еще ж и нервы могут … тово … товарищ капитан… И пальцы хорошо разминать надо. Искусство … оно …
Капитан досадливо махнул рукой и отошел, ничего не сказав. А я получил возможность дополнительно два часа « разминать пальцы». Но и ответственность за исход концерта неизмеримо возросла. Четыре часа в сутки я наяривал упражнения, а потом концертные вариации и чардаш, прошли все репетиции и просмотры.
И вот наконец концерт. Сперва для обкатки в своем городке. Огромная солдатская столовая на тысячу посадочных мест, пропахшая борщами и салатом из квашеной капусты, теперь принимала высокое искусство. Пришли даже жены офицеров, что подняло статус концерта на невиданную высоту. На десяток женщин, севших в первом ряду, смотрели так, как смотрели бы, наверно, на инопланетян или на богинь, спустившихся на грешную землю. Головы парней тянулись поверх других, таких же голов, чтобы увидеть стройную шейку или хотя бы волосы подразумеваемой прекрасной женщины. Большинство, естественно, ничего не видело.
Так длилось до самого открытия занавеса. Когда начался концерт, все немного успокоились. Несмотря на страшное волнение, я отыграл свои сольные вещи безошибочно, а кроме того аккомпанировал танцорам и певцам вместо заболевшего штатного баяниста. Аплодировали оглушительно, наша рота даже встала после моего выступления. Вслед за нею вставали и другие подразделения, чьи представители участвовали в концерте.
У победы, успеха всегда много творцов. Из-за кулис было видно, как командир полка поздравлял комбатов, руководителей отдельных рот и подразделений. Наш подполковник Гурьев подошел к Василию Петровичу и благодарно пожал ему руку. Тот– нашему командиру взвода. Старшина сам подкатил к ротному:
– Ну как, товарищ капитан, девятая рота, а?
– Хорошо, хорощо,–ответил довольный Бабий, но, соблюдая субординацию, не стал дальше распостраняться, а только деловито добавил:– завтра поговорим.
После вечерней поверки товарищи мои всласть обсуждали и появление женщин на концерте, и сам концерт.
–Ну ты и резал,– восхищенно сказал Толя Сергиенко, толкая меня в плечо,– штатный так не чесал…
– А я,– как всегда, стеснительно говорил Хабидулла,– толком и не помню, что ты играл. Вспотел весь … переживал, чтоб ты не срезался … вещь больно трудная, чувствуется … когда ты закончил, ну, думаю, теперь можно остальное спокойно послушать.
– Спасибо, дружище,– искренне сказал я.– И сам не помню, как играл, пальцы сами ходили, вас боялся подвести … все плыло, как в тумане.
– Счастливчик ты, Васька,– с добродушной завистью сказал Витька Романчук.– Теперь, я слышал, вы в Кишкун-Майше будете чесу давать. Представляю, сколько там мадьярочек аппетитных будет. Уйма! Ты ж смотри не подкачай. При первой же возможности … не подведи мотопехоту. Так, ребята?







