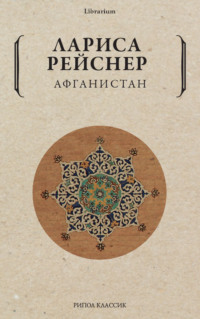Полная версия
Фронт
В высоких столбах воды, поднятых снарядами, играла огнистая дуга, и на реке ежеминутно вздымались и таяли пушистые, белоснежные и радужные фонтаны. С отмели поднялась стая испуганных лебедей, мимо нее разбежался и прогудел гидроплан, и воздух наполнился лебединым криком, трепетом белых крыльев и пчелиным гудением винта.
И Маркин не выдержал. Маркин, командовавший лучшим пароходом «Ваня-коммунист», привыкший к опасности, влюбленный в нее как мальчик, не мог со стороны наблюдать воинственную игру этого утра. Его дразнил и привлекал высокий песчаный обрыв, и Пьяный Бор, таинственно-молчаливый, и притаившаяся опушка, и эта батарея на берегу, где-то спрятанная, терпеливо ожидающая.
Как выбрали якорь, как скользнули вдоль запретного берега, как успели отойти далеко от своей стоянки, никто хорошо не помнит. И вдруг недалеко, почти перед собой, заметил Маркин прикрытие и за ним неподвижные, на него направленные дула.
Один корабль не может сражаться с береговой батареей, но это утро после победы было так хмельно, так безрассудно, что «Коммунист» не отступил, не скрылся, но вызывающе приблизился к берегу, пулеметом отгоняя прислугу от орудий. Безумству храбрых поем мы славу. Но на этот раз гибель Маркина была предрешена.
На помощь «Коммунисту», ушедшему далеко вперед, подошел миноносец «Прыткий». Можно не верить в предчувствия, но каким томительным волнением были охвачены все бывшие тогда на мостике «Прыткого». Это не страх – этой гнусной болезни никто не был подвержен, – но особое, единственное, какое-то щемящее ожидание, которое я лично тоже испытала, когда миноносец, ничего не подозревая, приближался к «Коммунисту».
Краткий разговор с корабля на корабль был последним для Маркина. Комфлот спросил по мегафону:
– Маркин, в кого вы стреляете?
– Мы стреляем по батарее.
– По какой батарее?
– Вон за дровами, видите, блестит дуло.
– Немедленно дайте полный ход назад.
Но было уже поздно. Едва машина миноносца сделала бешеный скачок назад, едва «Коммунист» последовал за ним, – белые на берегу, чувствуя, что добыча от них ускользает, открыли истребительный огонь. Снаряды валились градом. За кормой, по бортам, перед носом, – кругом. Через мостик они проносились с «сосущим» воем, как кегельные шары катясь и разрывая воздух. И через несколько минут «Коммунист» окутался облаком пара, из которого, танцуя, прыгал золотой язык, и заметался от берега к берегу со сломанным рулем. Тогда сирена закричала о помощи.
Несмотря на страшный артиллерийский огонь, мы вернулись к погибающему, надеясь его взять на буксир, как было под Казанью при гибели «Ташкента», который удалось взять на буксир и вывести из огня.
Но бывают условия, при которых самое высокое мужество бессильно: у «Вани-коммуниста» первым же снарядом разбило штуртрос и телеграф. Судно, ничем не управляемое, закружилось на месте, и миноносцу, с величайшим риском подошедшему к нему, не удалось принять на буксир умирающий корабль.
«Прыткий», сделав крутой оборот, должен был отойти. Как белые нас тогда упустили, просто непонятно. Стреляли в упор. Только поразительная скорость миноносца и огонь его орудий вывели его из западни. И странно, две большие чайки, не боясь огня, долго летели перед самым его носом, исчезая ежеминутно за всплесками упавших в воду снарядов.
Среди тех, кого удалось спасти, был и товарищ Поплевин, помощник Маркина. Человек молчаливый, необычайно скромный и мужественный, один из лучших на флотилии, он надолго сохранил синеватую бледность лица; и особенно ясно выступали на нем следы смерти, когда безоблачно сияло осеннее небо и невозмутимо журчала вода под золотистым камским берегом.
Он отплатил за своего друга и за гибель своего корабля. Ночью, когда самые сильные уставали, Поплевин бесшумно подымался на мостик и одни под темным звездным небом смотрел, прислушивался, угадывал малейшее движение ночи, и никогда не уставала и не ослабевала его священная месть.
Маркина ждали всю ночь – Маркин не вернулся, и о нем грустили, стоя у руля, молчаливые штурвальные, и наводчики у орудий, и наблюдатели у своих стекол, которые вдруг казались мутно-водянистыми от непролитых слез.
Погиб Маркин с его огненным темпераментом, нервным, почти звериным угадыванием врага, с его жестокой волей и гордостью, синими глазами, крепкой руганью, добротой и героизмом.
Погиб «Ваня-коммунист»; на миноносцах расстрелянные пушки остались почти без снарядов, а обещанный десант все не приходил. Тогда в сумерки на моторном катере сняли брезент с четырех темных продолговатых предметов, сложенных рядами.
Минеры, флагманский штурман и командующий долго совещались, склоненные над картой, и, когда выходили из кабинета, были молчаливы и пожали руки уходящих особенно крепко. Комфлот проводил четырех матросов и офицера на палубу, и через несколько минут истребитель, груженный минами типа «рыбка», скрылся за островом.
Вернулся он под утро, на корме уже не видно было черных, длинных, похожих на усатые ведра, мин. Теперь оставалось одно: спокойно ждать. И действительно, на второй день белые, отпраздновав всеобщим пьянством гибель «Коммуниста», перешли в наступление.
Шли в кильватерной колонне, торжественно, как на парад. Сам адмирал Старк, командующий белогвардейской флотилией, впервые лично принял участие в походе. Его флаг был поднят на «Орле». Но, едва поравнявшись с «Зеленым островом», торжественное шествие должно было остановиться. Пароход «Труд», шедший головным, вдруг стал, и нос его буквально оторвало от корпуса: мины сделали свое дело.
Теперь на обледенелых берегах Камы, почти рядом, лежат разрушенные и обгорелые остовы двух кораблей: «Вани-коммуниста» и белогвардейского «Труда». И кто знает, быть может, под непроницаемой поверхностью реки, на темном дне, прибило течением друг к другу Маркина и тех презренных, которые из пулеметов добивали его утопающую команду.
Покидая Каму, быть может, навсегда, моряки долго и неохотно прощались. Ничто не сближает людей так прочно, как вместе пережитые опасности, бессонные ночи на мостике и те долгие, со стороны незаметные, но мучительнейшие усилия воли и духа, которые подготовляют и делают возможной победу.
Никакая история не сумеет заметить и по достоинству оценить большие и малые подвиги, ежедневно совершавшиеся моряками Волжской военной флотилии; вряд ли даже известны имена тех, кто своей добровольной дисциплиной, своей, неустрашимостью и скромностью помогли созданию нового флота.
Конечно, отдельные лица не делают истории, но у нас в России вообще так мало было лиц и характеров, и с таким трудом они выбивались сквозь толщу старого и нового чиновничества, так редко находили себя в настоящей, трудной, а не словесной и бумажной борьбе. И раз у революции оказались такие люди, люди в высоком смысле этого слова, значит Россия выздоравливает и собирается.
И их немало. В среде, которую пришлось мне наблюдать, их было много. В решительные минуты они сами собой выступали из общей массы, и вес их оказывался полным, неподдельным весом, они знали свое геройское ремесло и подымали до себя колеблющуюся и податливую массу.
Вот спокойный, немногословный Елисеев, чудесный наводчик, Подбивавший лодчонку на двенадцативерстной дистанции из дальнобойного орудия, со своими синими, без ресниц, глазами, опаленными при разрыве орудия, всегда устремленными куда-то далеко вперед.
Вот Бабкин, больной, всегда в жару и с пьяными глазами, которому осталось недолго жить и который по-царски расточает сокровища своего беззаботного, доброго и непостижимо стойкого духа.
Это он приготовил белым минное поле, на котором подорвался их сильнейший пароход «Труд».
Вот Николай Николаевич Струйский, флагманский штурман и наопер[1] флотилии во вторую половину Камского похода. Один из лучших специалистов и образованных моряков, служивших безукоризненно Советской власти в течение всей гражданской войны. Между тем его вместе с несколькими младшими офицерами насильно мобилизовали и чуть не под конвоем привезли на фронт. На «Межень» они прибыли, ненавидя революцию, искренне считая большевиков немецкими шпионами, честно веря каждому слову «Речи» или «Биржевки».
На следующее же утро по прибытии они участвовали в бою. Сперва сумрачное недоверие, холодная корректность людей, по принуждению вовлеченных и чужое, неправое, ненавистное дело. Но под первыми выстрелами все изменилось: нельзя делать наполовину, когда от одного слова команды зависит жизнь десятков людей, слепо исполняющих всякое приказание, и жизнь миноносца, этой прекраснейшей боевой машины. От каждого матроса – стальная нить к капитанскому мостику, к голосу, повелевающему машиной, скоростью, огнем и колесом штурвала, вращающемуся в дрожащих руках рулевого. Хороший моряк не может саботировать в бою. Забыв о всякой политике, он отвечает огнем на огонь, будет упорно нападать и сопротивляться, блестяще и невозмутимо исполнять свой профессиональный долг. А потом, конечно, он уже не свободен. Его связывает с комиссаром, с командой, с красным флагом на мачте – гордость победителя, самолюбивое сознание своей нужности, той абсолютной власти, которой именно его, офицера, интеллигента, облекают в минуту опасности.
После десяти дней походной жизни, которая вообще очень сближает, после первой победы, после первой торжественной встречи, во время которой рабочие какого-нибудь освобожденного от белых городка с музыкой выходят на пристань и одинаково крепко пожимают и руку матроса, первым соскочившего на берег, и избалованные, аристократические пальцы «красного офицера», который сходит на «чужой» берег, нерешительно озираясь, не смея еще поверить, что он тоже товарищ, тоже член «единой армии труда», о которой так взволнованно, неуклюже и радостно трубит хриплая труба провинциального «Интернационала».
И вдруг этот спец, этот императорский службы капитан первого ранга с ужасом чувствует, что у него глаза на мокром месте, что вокруг него не «шайка немецких шпионов», а вся Россия, которой бесконечно нужен его опыт, его академические знания, его годами усидчивого труда воспитанный мозг. Кто-то произносит речь – ах, эту речь, задиристую, малограмотную, грубую речь, которая еще неделю тому назад не вызвала бы ничего, кроме кривой усмешки, – а капитан первого ранга слушает ее с сердцебиением, с трясущимися руками, боясь себе сознаться в том, что Россия этих баб, дезертиров и мальчишек, агитатора товарища Абрама, мужиков и Советов – его Россия, за которую он дрался и до конца будет драться, не стыдясь ее вшей, голода и ошибок, еще не зная, но чувствуя, что только за ней право, жизнь и будущее.
Еще через неделю, надев чистый воротничок, смыв с головы и лица угольную и пороховую копоть, застегнув на все золотые, с орлами, пуговицы китель, на котором не успели выгореть темные следы эполет и нашивок, товарищ Струйский идет объясняться со своим большевистским начальством. Он говорит и крепко, обеими руками, держится за ручки кресла, как во время большой качки.
– Во-первых, я не верю, что вы, и Ленин, и остальные из запломбированного вагона брали деньги от немцев.
Раз – передышка, как после залпа. Где-то вдали, где морской корпус, обеды на «Штандарте» и золотое оружие за мировую войну, – взрывы и крушение. Запоздалый Октябрь.
– Второе: с вами Россия, и мы тоже с вами. Всем младшим товарищам, которые пожелают узнать мое мнение, я скажу то же самое. И третье: вчера мы взяли Елабугу. На берегу, как вы знаете, найдено до ста крестьянских шапок. Весь яр обрызган был мозгами. Вы сами видели – лапти, обмотки, кровь. Мы опоздали на полчаса. Больше это не должно повториться. Можно идти ночью. Конечно, опасный фарватер, возможна засада в виде батареи… но…
Из кармана достается залистанный томик «Действия речных флотилий во время войны Северных и Южных штатов».
Астрахань
I
Первые дни.
Ночи темные, голубые, и бесконечная степь.
У насыпи нахохленные, как хищные птицы, смуглые даже при свете узкой и отдаленной половецкой луны, отдыхают татары.
Такими же они были при князе Игоре, в своих теплых мерлушковых шапках, прикорнувшие к земле, похожие на природный камень. И, как сотни лет тому назад, мимо них идет Русь воевать на Юге.
В сумерках на пути скрипят и лязгают воинские поезда, но люди на одиноких степных полустанках спокойнее, крепче, увереннее, чем на страшных столичных вокзалах, где бивуак и больница, ночлежный дом и лагерь отвратительно смешаны. Чистый ветер разносит по безграничным просторам последние остатки привезенной нами городской пыли, самый дым паровоза отдает полынью.
Здесь уже вступает в свои права война. С первым раненым, которого подсаживают на высокую подножку вагона, она входит в нашу жизнь, чтобы не уходить из нее до конца.
Это человек лет сорока, с узловатой, коротко остриженной головой и маленькими глазами, в которых все время видно ровное золотистое дно его души. Большой загорелый лоб, покрытый следами изнурительного южного солнца, но где ни одно сомнение не оставило своей язвительной борозды. Рука у него в локте перерублена казацкой шашкой, и до сих пор на сером полотне рубашки затертый кровяной след. При отце – тринадцатилетний сын, совсем уже большой, красивый и ничего не знающий о своей красоте, полуребенок-полувоин, в профиль напоминающий воинственных ангелов Византии.
Как долго и ясно запоминается лицо этого мальчика: оно все целиком обращено в одну сторону, как бы навстречу сильному ветру, и на нем рдеет отблеск революции, которая прошла так близко и коснулась его детства горящим крылом.
Вероятно, он не узнает зрелых лет, никогда не возмужает, не прочтет книги, не коснется женщины. Это быстро идущее время унесет его где-нибудь среди зеленой степи, неожиданно окруженного конницей калмыков. Он будет долго защищаться, плечом к плечу со своими братьями и отцами, будет, вероятно, сломлен, и в безгранично голубом небе над его головой хищная птица опишет медленный стелющийся круг. Страх смерти, который на слабых лицах застывает, как жир на остывшей тарелке, на этом милом и мужественном лице зарисует свои лучшие морозные узоры, сказочные, бесконечные, неподвижно улыбающиеся.
Так гибнут дети революции.
II
Астрахань тягостна. Астрахань безнадежна.
Она лежит, как распаленный желтый камень, посреди разлившейся Волги. К городу над затопленными полями ведут узкие железнодорожные насыпи: золотистые нити в целом море мутной, соленой, беспокойной воды.
Пахнет морем, солнце жжет, и город, состоящий из непросыхающей грязи, низких домов без лица и без возраста, из камня и пыли, пыли и зловония, развалин и пустырей, с трудом переводит дыхание.
Только ночью начинается жизнь. Лица, изнуренные лихорадкой и дневным жаром, так странно бледны при электричестве в единственном парне, где редкие старые деревья кажутся черными, лесными. Посередине, в тени кленов, светится освещенный изнутри, большой стеклянный гроб, до краев полный цветами. Кажется, точно странные розы, лилии небывалых размеров, маки и левкои сами излучают сияние: это могила революционеров, гениальнейшая из всех, мною виденных до сих пор.
III
В солоноватой сыпучей пустыне, окружающей Астрахань, есть редкие оазисы: это старинные татарские сады.
Там цветет виноград, пахнет медом, вином и мятой. Ленивый вол, бесконечно вращая скрипучее первобытное сооружение, пригоняет воду из соленого болота к садам.
Белые розы так бледны и неподвижны и расточают тяжелое, драгоценное дыхание. Они напоминают о прохладном и низком, из засохшей глины вылепленном капище в степи, где на подножке из черного дерева царит азиатский божок, скрестив изысканно длинные ступни и ладони, и улыбается солнцу золотой улыбкой.
В зеленую шелковую траву с низко опущенных веток без шума надают персики; огненные помидоры на сухом стебле прекрасны и как-то слишком великолепны, как драгоценности, одетые с утра. А жаркие сливы – под их янтарной и сухой кожицей бродит разогретое вино.
Высоко в небе, над млеющими садами, слышно отдаленное гудение. Оно крепнет, но вокруг лепечет рай, и не хочется открывать глаз.
Это гудят пчелы в винограднике, это благовест зреющего лета.
И вдруг пробуждение: бросив гряды и шпалеры, сбегаются испуганные садовники, и все лица обращены к небу. Там из-за пушистого облака треугольником летят к городу три враждебные птицы, и на солнце при поворотах серебрятся их крылья, уверенные, почти ничем не рискующие, на чистом английском бензине плавающие крылья.
Навстречу трем низколетящим хищникам из-за леса поднимается наш неуклюжий, одинокий аэроплан. Он чувствует в своем нежном и неустойчивом механизме вредную, разъедающую «смесь», которая застревает в тончайших сосудах, дает перебои и ежеминутно грозит иссякнуть. Это безнадежный полет.
Летчик пренебрегает сенью волокнистых облаков, плывущих в воздушном море белым полуостровом, и прямо с земли, не кружась, но подымаясь круто и шумно, как воин в полном тяжелом вооружении, взбегает на вершину незримой воздушной горы.
Кто он, неизвестный летун, сердце каких царей стучит в его груди, какая кровь героев внушает эту безрассудную, ни с чем не сравнимую прямоту его полету?
Там, внизу, лежит беззащитный город: он никого не мог вдохновить на подвиг своими грязными улицами и злым, ненужным людом, готовым задушить революцию и все красные побеги жизни.
И все-таки он подымается. Уже слышен в небе треск пулеметов, и немного выше неприятельских машин курятся белые клубки дыма: это с берега единственная пушка, медленно поворачивая циклопический глаз, нашла отдаленную цель и бросает в пространство смерть.
Они ушли. Они не выдержали этого неукоснительного сближения. Вон уже далеко блестят их чешуйчато-серебряные спины, и едва доносится враждебный гул. Широкой радостной дугой плывет домой наш аэро. Верно, сейчас лицо летчика под маской бело, и каждая его черта законченна и огромна, а глаза пристальны и блестящи, глаза давно исчезнувших воинственных птиц.
IV
Где вышиты золотом осы, цветы и драконы…
Розовым пожаром заходит солнце.
Легкая арба быстро мчит к городу, где-то далеко остались сады и воздушная битва над ними. Мелкорослые и грязные, как бездомные собаки, плетутся к кремлю предместья. У дверей и ворот татарского квартала сидят важные старики в опрятных шелковых халатах и белых чулках. На их лицах розовый отблеск солнца, более древний, чем пурпур наших знамен. Они сидят и молча грезят, быть может, о старинных буддийских иконах, какие приносят из степных сел наши разведчики. Вот одна из них: на фоне, темно-зеленом, как чувственная и торжествующая южная весна, сияет розовый полукруг зари, и под сенью его, скрестив изысканно тонкие члены, восседает утреннее божество.
Его лицо того же темно-зеленого цвета, и на нем, цветущей ветвью среди листвы, улыбается густой, острым полукругом очерченный рот. В одной руке пурпурный колокольчик, в другой – песочные часы, но не одинокие часы Дюреровой Меланхолии, по крупинкам мерящие отчаяние, но часы пробуждения и вечной жизни. Над головой дружественно стоят рядом, разделяя изумрудное небо, – справа солнце, слева луна. Оба светила окружены клубящимися облаками, несколько мягче окрашенными, чем алый нимб, с которым они сливаются. За ними – бесконечность.
Необычайны глаза этой азиатской Авроры. Слегка косые, под агатовыми бровями, с утренней звездой между ними. Это глаза самых загадочных портретов Возрождения, но без их двусмысленной слабости и художественной лжи. Глаза мудрые, холодные, устремленные в себя, несмотря на сладостную улыбку. На руках, совершенно женских, красные браслеты. Но грудь зелено-пурпурной Эос не обозначена ни единой чертой. Таким образом, она, прекраснейшая среди богов и древних людей, непорочная, с торсом юноши, смеющаяся заря, в очах которой вся радость и печаль еще не наступившего дня. У ног ее лежит земля, темная, покрытая лесами, с одной светлой, проснувшейся, озаренной поляной посередине.
V
Виделись с Беренсом, командующим всеми морскими силами Республики. Он приехал на фронт, милый и умный, как всегда, уязвленный невежливостями революции, с которыми он считается, как старый и преданный вельможа с тяжелыми прихотями молодого короля.
Его европейский ум нашел неопровержимую логику в буре и, убежденный ею почти против воли, добровольно сделал все выводы из огромной варварской истины, озарившей все извилистые галереи, парадные залы, сады и капеллы его полупридворной-полуфилософской души. И хотя над головой Беренса весело трещали и рушились столетние устои и гербы его рода, а под ногами ходуном заходил лощеный пол Адмиралтейства, его светлая голова рационалиста восторжествовала и не позволила умолчать или исказить, хотя сердце кричало и просило пощады.
Наконец к его опустошенному дому пришла новая власть, заставила себя принять и потребовала присяги в верности. Он принял ее взволнованный, со всей вежливостью куртуазного XVІІІ века, стареющего дворянина и вольтерьянца, сильно пожившего, утомленного жизнью, а на склоне дней еще раз побежденного страстью – последней, нежнейшей любовью к жизни, молодости и творчеству, к жестокому и прекрасному ангелу, обрызганному кровью и слезами целого народа и пришедшему наконец судить мир. Революция заставила Беренса – теоретика и сибарита – засучить кружевные манжеты и собственными руками рыть могилу своему мертвому прошлому и своему побежденному классу. Беренс вооружает корабли против реставрации и верит, вопреки всем догмам, что его маленькие флотилии, нагруженные до краев мужеством и жаждой жертвы, могут и должны победить.
После падения нашего Царицына Беренс сидит у себя в каюте, и глаза его становятся такими же, как у всех стариков, в одну ночь потерявших сына.
VI
10 июля 1919 года.
– Товарищ командующий, исполкомцы на ту сторону просятся, разрешите их переправить.
– Нельзя, они с нами пойдут в поход и будут показывать деревни, занятые казаками.
Вперед выступает коренастый, загорелый, с веселыми живыми глазами председатель какого-то сельского комитета, бежавший из своей степной резиденции с приходом кадет и сообщивший очень интересные сведения. Оказывается, в двадцати пяти верстах выше по течению прибрежная деревенька уже занята двумя казацкими полками, и на площади за церковью спрятаны четыре орудия. На заре вся эта сила должна двинуться на наш штаб в Р. А где же они теперь?
– Кто? Казаки? Купаются. Сегодня до ночи у них отдых. И люди и кони все в реке. Очень жарко.
И действительно, день огненный. Река неподвижно разметалась среди золотых песчаных берегов. Парит. Изредка из воды блеснет тяжелая рыба. Если бы не береговые батареи, как хорошо подойти сейчас по сонной и разгоряченной реке к этому берегу, где дикая орда полощется в реке, где среди брызг блестят на солнце широкие спины наездников, совсем как у Леонардо в его «Купающихся воинах». Ночью назначен поход.
Чудесная ночь. Опять эта низкая розовая луна, железная и жемчужная, жестокая, как запах полыни, и нежная, как цветение виноградников. Миноносцы тихо идут против течения, время исчезает, реи, как сеть, трепещут в небе, и в них полный улов звезд.
Проходим деревни, где спят, отдыхают и думают о завтрашнем набеге сотни врагов. Корабль в темноте выбирает место, наводит орудия, и по тихой команде из огромных тел выплескивается огонь.
Там, на берегу, уже умирают.
Маленький крестьянин-совдепец стоит на железном мостике, зажав уши руками. При магическом свете залпов видно на мгновение его лицо, с редкой рыжей бородкой, его белая рубашка и босые ноги. Он оглушен, – но после каждого взрыва на берегу по этому лицу пробегает какая-то величавая улыбка, какое-то смущенное, неосознанное, почти детское отражение власти. Вот он стоит в лаптях, русский мужик в лаптях, на бронированной палубе военного корабля, и весь этот быстроходный, бесшумный гигант, со своим послушным механизмом, с кругами радио телеграфа на мачтах, с знаменитым моряком-артиллеристом у дальномера, принадлежит ему и служит верховной его воле, его, Ивана Ивановича из села Солодники. Никогда и нигде в мире мужицкие лапти не стояли на этом высоком гордом мостике, над стомиллиметровыми орудиями и минными аппаратами, над целым человечеством, разбитым вдребезги и начатым сначала революцией.
Вынимая вату из уха, светило Морской академии Векман наклоняется к безмолвному, сжавшемуся в комочек и торжествующему Ивану Ивановичу и спрашивает его в темноте:
– Товарищ совдепец, выше или ниже колокольни, правильно ли мы бьем?
Иван Иванович ничего не отвечает, но по его блестящим глазам и сморщенному лбу видно, что стреляют верно.
Светает.
Вот совсем у берега грохнул снаряд.
– Это не иначе, как в дом Микиты! Богатый мужик – десять коров имел, не меньше, у него и приезжие офицеры останавливаются.