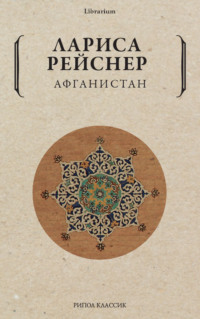Полная версия
Фронт
Какая-то деревня – в темную, бурную ночь. Бесконечные, в полнеба, зарницы, скрип повозок, тревожное ржание лошадей.
Бегающие ручные фонарики во мраке. Измученные, сбившиеся с пути, мы подходим к обозу за несколько минут до его ухода. Куда – в Свияжск. Застаем часть штаба, уцелевшую воинскую часть, работников из Политотдела. Нас узнают. Кто-то подошел, посмотрел на нас беглым светом фонаря, и трудно-трудно, точно во рту песок или вата, спрашиваю его: «Раскольников с вами?» – «Нет». Быстро опускает фонарь, прячет в темноту выражение своего лица.
Всю ночь повозки тянутся по размытой дороге, под ливнем, при непрерывных вспышках голубого огня. Кто-нибудь застрял, приказание передается от возницы к вознице, весь поезд останавливается. Бегут фонарики, слышно тяжелое дыхание лошади, увязшей в вязком болоте, шлепанье шагов, и опять двигаемся дальше. Хлещет дождь, от ветра скрипит глухой сосновый лес, и при каждом пылании зарниц видно крестьянина, поддерживающего дымный, трепещущий от усталости бок своей лошади, и чье-нибудь белое сонное лицо, мокрое от грозы. И оно тухнет.
Не стоит описывать подробно утро следующего дня: оно как и все дни отступления. Случайный сон под стогом отсырелого сена, боль в стертых ногах, неугомонные шуточки солдат, особенно когда они острят, сидя на задке походной кухни – место отдыха, занимаемое всеми по очереди. Прямая, сосредоточенно шагающая, молчаливая жена товарища Шеймана. Не видит, не слышит, ни с кем не говорит. Голова в белом платочке, не оборачиваясь, плывет на фоне мертвых осенних полей. Она еще не знает наверное, жив или убит, но предчувствие сильнее с каждой минутой – видно, как оно овладевает ею все крепче и жесточе. Чужим делается тяжело от ее затаенной, проклятой уверенности. Наконец – Волга, переправа, станция, сон на полу холодной, продувной теплушки. Еще сутки, потерянные на мокрых пустых дорогах. Утром – толчок, скрип колес, долгожданное, милое дергание – и через час мы в настоящем Свияжске. И в Свияжске их нет. В комендатуре толчея, разговоры, расспросы…
И вдруг какой-то лихой комендант озлобленно плюет на открытую рану. «Ну ваш-то наверное цел – напрасно беспокоитесь. До Парижа успел добежать». Через минуту он стоит, облитый горячим чаем, красный, удивленный и злой, но это ничего не меняет. Все окрашивается в черный цвет, во всяком вопросе чудится обидный намек. Наконец приходит телеграмма, что Ф. Ф. взят в плен белогвардейцами. Мелькает еще раз каменное бескровное лицо Шейман. Ее муж действительно убит.
Тут мы с Мишей и решаем идти обратно в Казань. Товарищ Бакинский пишет на крохотной папиросной бумаге пропуск через все наши линии. И, лукаво подмигнув голубым глазом: «Пойдете, – говорит, – к командиру Латышского полка, он вам, наверное, даст двух лошадей до передовой линии. А оттуда уж пойдете пешком…» И правда, латыши помогли… Помогла и маленькая ложь: пришлось сочинить, что Раскольников тоже латыш, не совсем, но по матери. Достали мне шинель, штаны, сапоги, вывели кавалеристы двух лошадей, но, боже мой, как на нее сесть, на эту буйную тварь? Справа или слева, – и что делать потом с ногами, к которым не без умысла привинчены гр омаднейшие шпоры? Поехали шагом – ничего. Потом рысью – мучение и страх. А проехать надо все сорок верст.
В первый же день знакомства с рыжим «Красавчиком» началась наша с ним нежная дружба, длившаяся три года. Далеко за Волгой, у самого полотна железной дороги, на опушке, конь вдруг заволновался. Я его – хлыстом, а у него дрожат нервные уши, блестит скошенный на меня, горячий глаз – и ни с места. Сопровождающие кавалеристы тоже остановились и смеются. И вдруг перед самым нашим носом один за другим три столба, три пыльных и красных грохота, три смерти. Пришлось свернуть в лес.
Много тут было пораненных деревьев – и с каким-то ломающим, продирающимся визгом падали снаряды в этой чаще.
Деревья стоят тихо, как приговоренные, – удивительно тихо и прямо. И так же тихо лежат люди на маленькой поляне, среди рыжих пахучих сосен. Солдаты и два командира возле своей притихшей, притаившейся батареи. Они как раз обедали. В мягкой от жара траве дымились суповые чашки, из них хлебали по два-три человека вместе. Почему-то шепотом, точно боясь выдать свою прогалину, опросили нас, проверили документы, потом предложили вместе пообедать. Смешно пахло от этого их супа: крутой разбухшей в кипятке, одутловатой бледно-зеленой капустой и лесной земляникой, которая повсюду краснела среди тонких, сухих трав – копий. В затишье, когда где-то там, за лесом, потный, черный и оглохший артиллерист при помощи нескольких чисел и своего мудрого звериного инстинкта отыскивал наше смутно-чаемое убежище, – в минуту перерыва, когда прикованные к месту сосны переводили дух, где-то рядом начинала нерешительно пощелкивать лесная птица, вернее всего – синичка. Щелкнет, щелкнет, помолчит. Солдаты перестают есть и внимательно слушают. Один подобрал на ложку занятого суетливого муравья и в застывшем, тяжелом внимании наблюдает его беготню. И всем нам легче, когда над головой опять провоет невидимый снаряд и в чаще затрещит и брызнет белыми, смолистыми щепами пораженная сосна. Не нашли, мимо, и все ложки опять в щах.
Опять мы едем завороженным, мертвым лесом, пока на опушке не начинают попадаться большие пустые дачи. За дачами Полотно – какое-то странное. Стоят отдельные вагоны, по два, по одному, на больших расстояниях друг от друга. Кажется, что они играют в «колдуна». Стоит отвернуться, и они подбегут ближе; взглянешь – опять остановятся в своих застигнутых врасплох нелепых позах. Кое-где мертвые лошади, и на все это пустое, обрыдлое место от времени до времени шлепают снаряды. Штаб совсем рядом, в ближайшей от станции даче. Что-то через час после нашего ухода и в него попала далекая, косноязычная, за несколько верст отыскивающая батарея. Был убит один из лучших наших командиров, товарищ Юдин. Но тогда он еще был жив, сам нас принял, и в последних часах его повышенно пульсирующей жизни, напряженной, как налитая и готовая лопнуть вена, мы заняли несколько быстрых, острых, громко отщелканных минут. Посмотрел документы, оставил их перед собой на столе, велел накормить и дать постель. И пока мы отдыхали и пили чай, в соседней комнате (через дачную стену все слышно) телефон вызвал Свияжск, Реввоенсовет. «Вы знаете такую-то, Лейзнер… да, Лейзнер? Давали пропуск? Да? Хорошо. А мы думали… Ну, ну, будьте здоровы».
Человек, по какому-нибудь делу попавший в банк, всегда начинает себя чувствовать вором. Решетки, несгораемые кассы, всеведущие счетные книги, самое безупречное сияние паркета – вся эта оградительно-щелкающая замками вежливость предполагает в каждом посетителе взломщика и мошенника. И на минуту, когда телефон расспрашивал Свияжск о некоей Р., я вдруг почувствовала, что мое поведение должно казаться страшно неправдоподобным, наружность – подозрительной. Черт возьми, а голос? Я сказала громко: «Иду в Казань по секретному делу». До чего чужой, лживый голос. Ну, ясно – шпионка.
Уже в сумерки товарищ Юдин зашел к нам в комнату. Его лица почти не было видно, но вся фигура – шершавые большие галифе, шпоры, руки, спокойно засунутые в карманы, показались дружественными. И, расспросив еще немного, куда мы и как, посоветовал сейчас же идти дальше, раз уж решились на такую отчаянную глупость. «Ну, прощайте, надеюсь, увидимся». И крепко пожал руку, подумав про себя, что мы-то вряд ли выйдем живыми из этого леса. Смерть, стоявшая за его спиной, цинично улыбнулась в темноту.
Уныло оглядывая свои исполинские сапоги и брюки, я заметила, что и красноармеец-хохол, приносивший чай, заинтересован ими не меньше меня. «Товарищ мадам, давай-ка поменяемся, ты мне муницию, а я тебе настоящую дамскую одежу – с оборами и перами». И принес откуда-то с чердака шикарный парижский корсет, камергерские брюки и, на мое счастье, темный дамский костюм. Камергерское золото вскоре заблистало на поджаром заде мальчишки-рассыльного, один из красноармейцев примерил розовый корсет, а мы с Мишей вышли из маскарада настолько приличными буржуями, что первый же передовой пост нас снова арестовал, несмотря на все пароли, бумажки и пропуска. Бешеный Иподи Миша под конвоем отправился обратно в штаб, и, пока он вернулся, окончательно стемнело. На прощанье часовой дал добрый совет – как можно дальше уйти от железнодорожного полотна и пробираться лесом. «А тут, – в темноте неприятно яснели рельсы, – вас мигом хлопнут».
Несколько часов тихой лесной дороги. Встретили двух разведчиков-кавалеристов. В темноте они испугались нас, а мы их.
Немного поговорили, согрелись о человеческий разговор – и дальше.
Лес ополаскивает усталость, как большое черное озеро – измученные ходьбой ноги. Помню еще звезды, страх темноты, страх быть без дома, без постели, без завтра. Вообще неприятное чувство горожан, отвыкших от большой дороги. На какой-то тропинке, в какой-то деревне, возле какого-то дома, отчаянные женские крики: в бане, на полу, молодая киргизка третьи сутки рожала и никак не могла родить.
Стук двери, новые лица, прикосновение незнакомых рук, вероятно, помогли ее нервам, ее желанию жить – страшной судорогой она выкинула ребенка. И сразу почти успокоившись, держа меня за руку, бормотала среди своих мокрых от пота волос какие-то картавые, засыпающие слова. Так и уснула, не разжимая своих сухих и горячих, как у птицы, пальцев.
Одним словом, на крестины киргизенка ушла нижняя юбка, а в шелковом носовом платке поехал в церковь младенец и какие-то, на всякий случай прихваченные, языческие божества. От посещения церкви мы воздержались. Поп, терпимый к старому Яриле, мог учуять более опасную бесовскою силу в новоявленных крестных.
После крестин счастливый отец предложил в знак благодарности провезти нас на собственной лошади в Казань.
– Уж я вижу, вы люди хорошие, порядочные. Не первый день живу на свете, слава богу, понимаю, кто к кому относится.
– А если нас остановят, что вы скажете?
– Скажу, что дачники, домой едут господа. Меня ведь знают, поверят.
И правда, теплым росистым утром телега киргиза повезла нас тихими проселочными дорогами. Колеи, заросшие яркой лесной травой, стук дятлов, запах смолы и земляники. И от времени до времени, спотыкаясь о чистый утренний воздух, визгливые кегельные шары над головой. Через лес бьет тяжелая артиллерия.
Русская провинция вообще ободрана, безобразна и скучна. Все ее города и городишки похожи друг на друга, как черствые калачи. Но среди них все-таки особенным уродством блещет Казань. Единственное, что в ней вообще имеет стиль и архитектурный характер, – это башня Сумбеки. Остальное, по сравнению с этим чисто татарским памятником, носит более чем монгольский характер. Арбузы, пыль, дощатые заборы, дома, в которых нет ничего, кроме вывесок и витрин. И мостовая из каменных желваков, мозолей, гранитных флюсов…
Ни один патруль не остановил нашу телегу, и в Адмиралтейскую слободу мы въехали, едва веря своей удаче, хотя непреложное уродство улиц и домов со все х сторон спешило нас уверить, что это уже не сон, а сама кривобокая, скуластая, охваченная белогвардейским бредом Казань.
– А куда же вы нас везете, кум, у кого устроите?
Киргиз обернул веселое, лукаво улыбающееся лицо:
– Вам ведь надо, где поспокойнее. Так уж лучше не найдете – к приставу слободскому вас отвезу. Человек свой, то есть надежный и положительный. Мы с ним старые друзья. – И радостно щелкнул вожжами по круглой спине лошади.
Мы с Мишей только переглянулись. Угодил нам кум, нечего сказать. Пристав!
Телега въехала в пыльную широкую слободскую улицу. Деревянный тротуар, во всех его щелях простодушная трава; одноэтажные деревянные домики, ворота с петухами и скрипом, зеленые и белые, всегда сонные ставни. Словом, сплошная голубизна купеческого неба, облачка, как пар от послеобеденного самовара, городок Окуров в шелковых, ярких и жирных красках Кустодиева. Догадливый кум остановил повозку перед самым нарядным и сдобным домиком, поцеловался с нами на прощанье и отечественно сдал на руки вышедшему на крылечко куму – приставу.
Собственно, мы с Мишей сразу попали в «театр для себя». В верхних комнатах приставского дома, на чисто вымытых, натертых воском и устланных половичками полах, разыгрывалась с виду вовсе безобидная мещанская комедия в постановке художественного театра, с геранями на окнах, с иконами в углу и с фотографиями местного окружного суда над письменным столом. Среди старинных сюртуков, высоких и тугих воротничков легко было узнать выпученные глаза, скулы и плоский, засиженный мухами лоб нашего хозяина. Как и полагается, у неторопливого, негромкого, равномерно наседающего на людей пристава была сухая, с облизанным злым черепом, скрипучая жена. Дочь их, Паша, розовая, полная, «вся в лапках и глазках, глазках и лапках», проводила время, положив на низкий подоконник свою пышную грудь и сплевывая семечки на редких прохожих. Как беззаботная наследница, она в политику не вмешивалась и только в разгар острых, истерических, грубых скандалов, затеваемых ее матерью с жильцами нижнего этажа, недовольно морщила розовую пуговку и говорила: «Мамаша, какая вы необразованная, нельзя же так громко». Внизу, под приставом, его вощеным полом и геранями жили, снимая углы, несколько рабочих с семьями. Революция на время прервала простые и ясные отношения, существовавшие между нижним и верхними этажами. И даже Пашино приданое грозило остаться неполным. Приставские корешки, равномерно, благодушно и даже патриархально тянувшие живой сок из подвала, вдруг остались без пищи и даже ощутили там, в углах, несколько явных укусов и повреждений. Дошло до того, что один из жильцов, рабочий, реквизировал для своих детей пушистую и белую приставскую козу.
Но затем, в июле, бог вмешался в грязные человеческие дела. Справедливость и суд, выскочив из рамки, потрясли мертвыми листами законов, и пышная Пашенька нисколько не встревожилась и не удивилась, когда мимо нее провели по улице буйного жильца, который больше никогда уже не возвращался. Тут все вошло в норму, и по мере того как новая власть на телегах свозила к Волге голые трупы рабочих, на домик пристава слетали идиллические тени. С мирным и счастливым чавканьем все семейство принялось сосать свой притихший подвал, где боялись плакать и шуметь. В это-то время, когда суд божий, а также и чехословацкий, находился в полном разгаре, мы и поселились у пристава. Сперва он несколько стеснялся, как еж, которому неудобно кушать живую лягушку среди белого дня, да еще по старой ежовой привычке начиная это лакомое блюдо с дрыгающих задних лапок. Но затем, попивши с гостями чаю, поругав жидов и коммунистов, убедился в нашей политической благонадежности и совершенно успокоился. Растягивая удовольствие, не чаще чем один раз в три дня, он ехал в город, причем вся улица и «подвальные» отлично знали, что «сам» опять отправился в штаб с доносом на кого-нибудь из них. Вечером полиция чинно забирала очередного жильца; наверху пили чай, мамаша чутко прислушивалась к возне внизу, папаша невинно, бесконечно долго и радостно толковал о том, что ему и самому жаль, но как христианин и офицер он не имеет права укрывать и пр. Если бы пристав мог видеть черный яд, который его рассуждения разливали по нашим нервам.
Паша, вся в розовом ситце и душой в безоблачном небе, где порхают бумажные голубки и незабудки, тихонько наливала шестую чашку чая соседу-учителю, которого в подвале звали просто «жених», вкладывая в это евангельское имя невыразимую ненависть к его дрянной бороденке, очкам и вообще интеллигентности. И когда внизу начинался долго сдерживаемый вой, мамаша смеялась, как масло на сковородке, папаша величественно изумлялся поверх очков и листа «Нового времени» за 1911 год. Паша немного морщилась, и учитель нежно объяснял ей, что такое значит Учредительное собрание.
На следующее утро Миша, взяв деньги и бумаги, ушел в город на разведку. Пристав отправился в обход отыскивать и отнимать оружие у рабочих, мамаша опустилась в сладчайший ад, в подвал, снимать пену с горького и едкого горя, как с молока, свернувшегося в гнилой темноте этого дома. Паша уселась за роман с неизбежным Раулем, я за газету, в которой среди имен казненных не было упомянуто единственного имени, меня интересовавшего. Таким образом, все обитатели приставского дома занялись своими делами, довольно разнородными.
Толстые черные мухи жужжали на стекле, все потихоньку погружалось в дремоту. Однако часам к двум глухие раскаты, звучавшие накануне очень отдаленно, значительно придвинулись к городу. В купеческом сатиновом небе стали вспыхивать и рассыпаться молочными плерезами дымки шрапнелей. Безлюдная наша улица опустела окончательно, обычный ее сон сгустился до грозовой тишины. Внизу уже не плакали и не шептались: там ждали. Пристав вернулся домой взволнованный, и как раз за обедом, когда он только что пустился в подробное описание обыска, над самой его крышей треснул первый железный орех. Семейство испугалось, но затем непобедимое словоизвержение превратило разрыв снаряда в простую случайность. Все прижатые было страхом чертополохи опять оправились и высоко подняли свои колючие шишки. Я, как «жена офицера», должна была еще раз успокоить своих собеседников насчет полной несостоятельности Красной Армии:
– Конечно, разве это войска? Банда, сброд, шайка, которая побежит от одного выстрела.
– Сударыня, совершенно верно!
Бац! В это время над нашей головой снова разорвался снаряд. У меня сердце задрожало от сумасшедшего пляса красных веселых чертей, а пристав, оставив высшие стратегические рассуждения до другого раза, надел на себя вторую пару теплых брюк и со всеми домочадцами спрятался в баню. Вот тут-то мы и познакомились с подвальными соседями.
Я их застала на верхней ступеньке лестницы. Приподняв голову над низким порогом, женщины и дети с каким-то одеревеневшим ожиданием посматривали то в небо на кудрявые разрывы, то на дверь бани, из-за которой тревожно блеяла запертая коза. Поняли мы друг друга с полуслова. Жена последнего, только этой ночью арестованного рабочего подвинулась ближе, шепотом спросила фамилию и, подумав:
– Нет, этот убежал, в газетах писали, что убежал, зря вы пришли сюда.
Поправила ребенка, который никак не мог поймать ртом широкий и коричневый сосок ее худой груди, и опять стала молча слушать артиллерийские раскаты.
– А как думаете, моего уже расстреляли? Если сегодня войдут красные – ослобонят или уже поздно? – И, не ожидая ответа (ответ уже был в ней самой, плоский, деревянный, темный, как потолок подвала), погрузилась в симфонию наступления, от которой дрожал весь дом.
Сперва громы в се приближались. Они разражались долгими залпами, уверенно покрывая более мелкие и частые волны ответного огня. Потом откуда-то с другого берега вступили новые, отрыгающие железо, железные глотки. Сперва они били как бы наугад, потом с ужасающей правильностью. Свои или чужие? Увы, мы слышали только специфический гром залпа, в котором нельзя ошибиться. Разрывы их приходились не на Казань, значит… значит, над нашими. Еще около часу бушевала гроза в голубом солнечном небе – потом как будто отодвинулась. Все реже и реже рвались над городом снаряды, потом затихли совсем. И только издали, уже не уходя, по и не приближаясь, как черта бурунов, пенилась далекая стрельба. Час, два, а может быть, и дольше, пролежала моя соседка, положив голову на порог, не шевелясь, не говоря ни слова. Теперь она подняла лицо. На нем были следы слез, размазанная грязь и наше поражение. Взяв со ступенек уснувшего ребенка, каменная, прямая, она спустилась обратно в подвал.
Нужно ли говорить, что два слова на ухо приставу могли спасти эти семьи от белого террора и что никто из семнадцати подвальных жителей не пожелал воспользоваться этим средством.
Ни вечером, ни утром следующего дня не вернулся мой спутник. Я осталась одна, без денег и без документов.
Пристав заволновался, но затем решил, что моего «мужа» как офицера-добровольца могли просто мобилизовать в штабе, куда он явился, – и посоветовал съездить в город, навести справки.
Знакомые улицы, знакомые дома, и все-таки их трудно узнать. Точно десять лет прошло со дня нашего отступления. Все другое и по-другому. Офицеры, гимназисты, барышни из интеллигентных семейств в косынках сестер милосердия, открытые магазины и разухабистая, почти истерическая яркость кафе – словом, вся та минутная и мишурная сыпь, которая мгновенно выступает на теле убитой революции.
В предместье трамвай остановился, чтобы пропустить подводу, груженную все теми же голыми, торчащими, как дерево, трупами расстрелянных рабочих. Она медленно, с грохотом, тащилась вдоль забора, обклеенного плакатами: «Вся власть Учредительному собранию». Вероятно, люди, налепившие это конституционное вранье, не думали, что их картинки станут частью такого циничного, общепонятного революционного плаката.
Белый штаб помещался на Грузинской улице. В общем, без особого труда удалось получить пропуск в канцелярию; мимо меня пробежали штабные офицеры, всего несколько дней тому назад служившие в Реввоенсовете. У всех дверей часовые – гимназисты, мальчики пятнадцати-шестнадцати лет. Вообще вся провинциальная интеллигенция встрепенулась, бросилась в разливанное море суетливой деловитости, вооружилась и занялась государственными делами в масштабе любительского Красного Креста, любительского шпионажа и самопожертвования на алтарь отечества, декорированного лихими галифе, поручичьими шпорами и усами.
Боже, как хорош белый режим на третий день от своего сотворения! Как бойко стучат машинистки, какие милые, интеллигентные женские лица над ремингтонами. У дверей кабинета два лихача-солдата, вроде тех, что каменели в старину у царской ложи, и из этих дверей порою выплывает в свежей рубашке, в распахнутом кителе и душистых усах, о, какой если не генерал, то вроде него – полковник или капитан, и как нежно, одухотворенно и скромно плавают на чиновничьей и военной поверхности жирные, хотя и редкие, пятна истинного просвещения; как кокетливо выглядывают из-за обшлага наши университетские значки.
О, alma mater, гнездилище российской казенной учености, и твой тусклый луч позлащает сии эполеты, аксельбанты и шпоры. В одно из посещений штаба мне даже довелось видеть в приемной поручика Иванова, этого Мадемуазель Фифи белогвардейской Казани, настоящего профессора, в крылатке, в скромной шляпе с мягкими полями, с теми пышными и чистыми сединами, какие после Тургенева носили все ученые-народолюбцы, кумиры «чуткой передовой молодежи», который вполголоса быстро-быстро сообщал лениво и пренебрежительно слушавшему его юнкеру всякие особые секреты по части неблагонадежных элементов, спрятавшихся в его квартале…
Дня два продолжались мои визиты на Грузинскую; от нескольких секретарей и дежурных удалось окончательно узнать список расстрелянных и бежавших друзей. Пора было подумать об обратном исходе.
Пристав, тщетно прождав моего без вести пропавшего «мужа», начал проявлять признаки беспокойства; денег не было ни гроша, и мои подвальные соседи настойчиво советовали уходить, пока не поздно. Да и жизнь в постоянной лжи, в ежедневном разговоре на тему о жидах, коммунистах и грядущих победах святого православного оружия становилась невыносимой. Однажды утром я тихонько оделась, ощупала в кармане засохшую корку хлеба, в которой окаменел запрятанный в мякиш пропуск, и решила уйти из дому, чтобы уж не возвращаться в него никогда. Жена рабочего успела всунуть мне в руну трехрублевую бумажку. Но у ворот меня остановил пристав:
– Вы куда, сударыня, в такое раннее время?
– В штаб, сегодня обещали дать точную справку.
– Позвольте вас проводить, я помогу, окажу, так сказать, протекцию.
– Да не беспокойтесь, я отлично доеду сама…
– Какое тут беспокойство? Нет уж, разрешите старику поухаживать за дамой.
Как я ни отговаривалась, пристав стоял на своем, и мои слова прилипали к его сладкой настойчивости, как мухи к сахарной бумаге.
В штабе точно из-под земли вынырнул расторопный секретарь, а пока мы с ним проходили через общую залу, за спинами просителей и барышень, с любопытством провожавших нас глазами, блеснул уже белесый холодок штыка.
Кабинет поручика Иванова помещался наверху, в трех маленьких комнатах. Первая из них, приемная, была густо набита просителями, арестованными, родственниками всякого рода и часовыми. Пока мой почетный конвоир бегал докладывать Иванову, тому самому, который «за революцию» бил по пяткам казанских железнодорожных рабочих, я успела оглядеться.
И вот в двух шагах, лицом ко мне, группа знакомых матросов из нашей флотилии. Матросы, как все матросы восемнадцатого года, придавшие Великой русской революции ее романтический блеск. Сильные голые шеи, загорелые лица, фуражки «Андрея», «Севастополя» и просто «Красный флот». Боцман смотрит знакомыми глазами, пристально, так, что видно его голую душу, которая через двадцать минут станет к стенке, – его рослую душу, широкую в плечах, с крестиком, который болтается на сапожном шнурке, – не для бога, а так, на счастье.