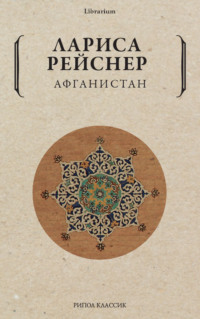Полная версия
Фронт

Лариса Рейснер
Фронт
© Марков А. В., вступительная статья, 2021
© Оформление. Т8 Издательские технологии, 2022
© Издание. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2022
Слово над фронтами: о военных и гражданских заметках Ларисы Рейснер
Летопись войны или революции обычно пишут полководцы, предводители, смелые организаторы, которые всегда знают, чего хотят. О любой гражданской войне невозможно писать летописно или триумфально: кто назовет себя властным над своими желаниями и идеалами в ходе таких столкновений? Писать о такой войне можно лишь с сожалениями. Читая отчеты Ларисы Рейснер о продвижении красных войск, о жизни глубоко неблагополучной Германии в 1923 году или ее аналитические записки о причинах поражения декабристов, сразу понимаешь, как крушение устремлений предшествует историческим поражением и как трудно оказывается говорить о произошедших катастрофах, даже если победа – на твоей стороне.
Лариса Рейснер (1895–1926) – имя для любого читателя, интересующегося советской историей, известное: о ней могли говорить в советское время меньше, чем она заслужила, но она никогда не оставалась в тени. Из семьи социал-демократов, тесно связанной со всеми мыслящими левыми политиками Германии и России, выпускница Психоневрологического института, самого новаторского частного учебного заведения старорежимной России, душа компаний новых поэтов, возлюбленная Гумилева и предмет обожания Мандельштама и Пастернака, она была образцовым новатором, как все тогдашние режиссеры, инженеры и изобретатели, встречавшиеся и обсуждавшие, что наступила новая эпоха. Между ней и Эйзенштейном, Выготским и, скажем, Львом Терменом больше общего, чем различного.
Стремление преуспеть во всем, в литературе, технике, даже военных миссиях, она разделяла со всем своим кругом – один из тех, кем она увлекалась страстно, Сергей Колбасьев, был учеником Гумилева, творцом не только советской военно-морской прозы, но также советской звукозаписи и советского джаза. Хотя Надежда Мандельштам, вдова поэта, и порицала потом Ларису Рейснер и ее мужа Федора Раскольникова за благополучную богемную жизнь в голодные годы, но в действительности это был образ жизни изобретателей, пионеров своего дела. Ее дипломатические успехи и ранняя трагическая гибель от инфекции, конечно, не могли не вызывать сочувствия даже тех, кто считал своими врагами всех красных.
Лариса Рейснер – революционер? Конечно, да. Образцовый эмиссар, организатор мирной жизни, одна из создательниц советской дипломатии? Конечно, тоже да. Гений советской литературы – на самом деле это не менее важно: правильно написать репортаж, объяснить, какие силы и как действуют, каковы минимальные условия исторической правды, столь же сложное дело, как электрификация всей страны, восстановление транспортного сообщения и строительство промышленных городов. Этому поколению пришлось решать как будто технические задачи, но требующие живого воображения, превышающего профессионализм инженера, чтобы смелая индустрия не обернулись банальным благополучием, а напротив, судьбы людей исполнялись в честных и качественных решениях. Борис Пастернак в «Докторе Живаго» потом описал, к чему приводит «суета этих вечных приготовлений», «позапрошлогодние декреты», «бедствие среднего вкуса», которые, к несчастью, и превратили революцию в то, на что некоторые не смогли отозваться.
Но революция пока не имела конца, и противостояние белых и красных Лариса Рейснер описывала как конечный суд над судьбами. Жизнь в занятых белыми городах кажется благополучной и даже уютной, но для Рейснер это дантовский адский уют постоянной рутины, мелких компромиссов, согласия на насилие, которое все дали без собственного ведома, просто заботясь о выживании. Это призрачный мир адских подобий, под стрекот пишущих машинок, шумную раздачу пайков и глухие допросы в застенках. Красноармейский мир – это, конечно, не рай, но, бесспорно, мир эсхатологический, иконописный, требующий широко глядеть в глаза смерти. В этом мире те символы Серебряного века, которые до этого выглядели стилизациями, как град Китеж, или небесный Кремль, или тонкие иконописные черты человеческого лица перед решающим поступком, приобретают свой настоящий размах: развеваются свитки судеб, блестит оружие, падают звезды и возникает новый мир, в котором нельзя ни от кого что-либо таить.
Не менее эсхатологичны рассуждения Ларисы Рейснер о Германии, в которой революция потерпела поражение, где сделки людей с совестью, готовность терпеть голод, лишь бы не расставаться с несгораемым шкафом своих иллюзий, предвещают самое худшее. Здесь исторический суд уже совершается; но тот крах институций, который для символистов был чаянием Третьего завета, нового неба и новой земли, оказывается просто прикрытием косности: профсоюзы не работают, армия выбилась из сил, рабочие не способны организовать даже митинг – но это просто победа вредной мечтательности (на языке аскетики мы бы сказали – «прелести»). Гладкий, бритый скептицизм вместо действия, ожидание, что революцию сделают соседи, – это и есть мерзость запустения, с которой непонятно как поступать, кроме как засвидетельствовать о ней.
Оригинальная концепция восстания декабристов – по сути, применение созданной еще символистами оптики к анализу революционной ситуации. Лариса Рейснер никак не могла свести историю к противостоянию аристократической фронды и двора и ограничиться тем, что у вождей восстания не было народной поддержки. Напротив, по мнению Рейснер, дубина народного гнева обозначилась и в декабре 1825 года: множество люмпен-пролетариев обеих столиц могли бы присоединиться к восстанию, общество бурлило от всеобщего недоверия, а для любого местного бунта требовался малый повод, нужно было лишь соединить их в одну гирлянду. Заметим, что прежняя русская литература так и не смогла рассказать о восстании: и Пушкин, и Лев Толстой задумывали художественный анализ истории декабристов как то, что выведет литературу непосредственно в современность, превратит ее из книжности в непосредственное событие живого дня. Герои «Евгения Онегина» и «Войны и мира» должны были оказаться близки центральным событиям неудавшегося восстания, но литературные условности эпохи не позволяли говорить, как герои делают собственный внутренний выбор, а не просто оказываются перед лицом испытаний, к которым не готовы. В то же время очерки Ларисы Рейснер о декабристах при всей их почти телеграфной сжатости – настоящее решение задачи со многими неизвестными.
Итак, по мнению автора, неизменному практику революции, самым печальным в ту эпоху была сдача позиций Южным обществом в пользу Северного. На место решительных людей, готовых вести полки на штурм, прорывать оборону, пришли лукавые политики, для которых люди – средства, цареубийство и цареубийца – лишь клеточки на большой карте скудного воображения, которые играют в политику как в карты или бильярд. По-настоящему мрачной фигурой предстает князь С. П. Трубецкой – мастер компромиссов, напрочь не понимающий, почему революция может воодушевлять, признающий только вычитанные из книг тактики, вроде выжидательной; он и сгубил революцию: каре солдат никуда не двинулось и никто к нему не присоединился. Трубецкой для Ларисы Рейснер, при всех несомненных убеждениях заговорщика, предвестник николаевской эпохи, веры в бюрократию и заемные технологии, с недоверием тому, чем только и живут люди, от высших офицеров до последнего мастерового. Ведь зачем делать революцию, если она просто перераспределит полномочия, не подружив со свободой даже тех людей, которые за день до этого не догадывались о возможности такой дружбы?
Настоящую революцию Лариса Рейснер видела «в преемственности, в этом постоянном и длительном нарастании» усилий, не позволяющих чьему-то частному суеверию, даже имеющему самый благополучный и рациональный вид, победить подлинную открытость событиям. Чрезмерная поспешность приводит к «озлобленной самокритике», мечтательность даже самого искреннего рабочего – к неумению копить силы из-за привычки их тратить, причем тратить больше на эмоции, чем на действительную работу. Поэтому авангардная мысль Ларисы Рейснер – прежде всего мысль о том, как научить пролетариат не слишком торопливому действию, чтобы он не принял свою раздробленность, свою вовлеченность в уже существующие структуры, от профсоюзов до торговли, за невозможность поменять что-либо в жизни.
Допустить такой скепсис – легализовать всеобщую конфискацию: буржуазный мир для Ларисы Рейснер страшен не только жестокой эксплуатацией, но возможностью конфисковать все, включая мечту и жизнь; сказать, что отныне и навсегда все диктуется только несколькими бумагами. Революция тогда – умение не уступить талант, как не уступают тело: как тело не должно быть в тюрьме и подвале, так и талант не должен быть в плену старых штампов, временного вдохновения, порыва, который ни к чему не приводит. Об этом заявляет нам и литературная критика Рейснер: даже наивное желание сельского корреспондента во всем найти хорошее она называет социальной язвой, именно потому что в этом плену благополучных образов нет той жизненной силы, которая создает водопровод и радио, но также и счастье и бессмертие. Неуклюжие газеты пока так же плохи, как и разбитые дороги, и эта неуклюжесть – прежде всего в неумении работать с новостями, в отношении к ним как к материалу, а не совестливой вести. Конечно, газета должна стать новым Евангелием, буквально «благой вестью», вдруг показывающей, что честность возможна не меньше, чем возможно будущее.
Читая в наши дни великую деятельницу русской революции, можно вспоминать о ней многое: поездки с Троцким и установку художественных инсталляций; сохранение памятников старины и готовность создавать женское движение на Востоке; оборону Свияжска и разведку в белой Казани; большой поэтический талант и гениальность в дружбе и любви. Но что бы мы ни вспомнили, – оно будет как будто для нашего времени, времени новых кризисов и вызовов. Помещать Ларису Рейснер в любой пантеон великих женщин будет безвкусицей, а перечитывать ее – школой не только честной политики, но и безупречного вкуса.
Александр Марков, профессор РГГУФронт
В Москве есть большие, грязные, обширные здания, в которых учатся тысячи солдатских, рабочих и крестьянских детенышей. Им скверно живется в переполненных общежитиях, и воздух их аудиторий гуще, зловоннее, сырее воздуха, которым дышало старое студенчество, шагавшее по бесконечному и солнечному коридору Петербургского университета, – эти новые люди, которые – «левой», «левой», «левой» – в несколько курьерски быстрых лет должны одолеть всю старую буржуазную культуру, и не только одолеть, но и переплавить ее лучшие, нужнейшие элементы в новые идеологические формы, эти новые люди рабфака – завтрашние судьи, наследники и продолжатели этого десятилетия.
Революция бешено изнашивает своих профессиональных работников… Еще немного лет, и из штурмовых колонн, провозглашавших социальную революцию в Октябре великого года, дравшихся под Петербургом и Казанью, под Ярославлем, Варшавой, на Перекопе и в Прикаспийской пустыне, в Сибири и на Урале, под Архангельском и на Дальнем Востоке, не останется почти никого… И новую пролетарскую культуру, наше пышное Возрождение будут делать не солдаты и полководцы революции, не ее защитники и герои, а совсем новые, совсем молодые, которые сейчас, сидя в грязных, спертых аудиториях рабфаков, переваривают науку, продают последние штаны и всей своей пролетарской кожей всасывают Маркса, Ильича…
Это буйный, непримиримый народец материалистов. Из своей жизни, из своего миросозерцания он со спокойным мужеством выкинул все закономерности и красоты, все сладости и мистические утешения буржуазной науки, эстетики, искусства и мистики. Скажите рабфакам «красота», и они – свищут, как будто их покрыли матом. От «творчества» и «чувства» – ломают стулья и уходят из залы. Правильно.
Но, освистывая и осмеивая буржуазный сантимент, вы, молодые, вы, пролетарские дети, не попадитесь в старую буржуазную ловушку, отлично пережившую эти годы и защелкавшую старыми пружинами. Если нет для вас буржуазно-индивидуалистических любвей, порывов и вдохновений, то есть Бессмертие этих только что отпылавших, в тифозной и голодной горячке отбредивших лет.
Это эстеты из «Аполлона», это утонченные знатоки и любители российской словесности брезгливо морщились от величавой и голой бабы Венеры. Они же зажимают нос от революции. Говорить такие пошлые, первобытные слова, как – «героизм» – «братство народов» – «самоотвержение» – «убит на посту»! Ах, да не только говорить, но и делать все эти грубо-прекрасные вещи, от которых у человека с хорошо воспитанным вкусом сосание под ложечкой начинается! Вот примеры: стайка кораблей, несколько десятков обшитых в железо барж и буксиров, двадцать тысяч кронштадтской и черноморской матросни, составляющей ее команды. Чтобы драться три года, чтобы с огнем пройти тысячи верст от Балтики до персидской границы, чтобы жрать хлеб с соломой, умирать, гнить и трястись в лихорадке на грязных койках, в нищих вошных госпиталях; чтобы победить, наконец победить, сильнейшего своего, втрое сильнейшего противника, при помощи расстрелянных пушек, аэропланов, которые каждый день валились и разбивались вдребезги из-за скверного бензина, и еще получая из тыла голые, голодные, злые письма… Надо было иметь порывы, – как вы думаете? Надо было изобрести слова, которые побеждают прирожденную, неизбежную трусость мяса, своей крови, своей тонкой человечьей кожи, которую легко проткнуть любым ржавым гвоздем?
Красная вода так легко вытекает, и все кончено. Надо было видеть за кровью и грязью, за томительными столами Соцобеза, который даже вот резиновой не даст за свою, оторванную, который по приемным и прихожим измает бабу, если завтра его, матроса миноносца «Карл Либкнехт», имеющего красное знамя, разольет и размажет в кашу на грохнувшей под снарядом палубе. А умирать? Без поповского бога и черта, которые все вывелись от революции, без всей утешительной лжи. Только успеет сказать «мои сапоги – тебе» и перестает быть.
Что это, красота или нет, когда в упор из засады по кораблю бьет батарея, и командир с мостика кричит обезумевшим людям. Так кричит, что они свой живот отклеивают от палубы, встают и бегут к орудиям. «Приказываю вам именем Республики – кормовое, беглый огонь» – и кормовое стреляет.
И творчество тоже есть – наше, а не буржуазное. Вот, надо было подорвать несколько особенно сильных кораблей снабженного англичанами, великолепно вооруженного белого флота. И никому не ведомый инженер-коммунист Бржезинский изобретает гениальную вещь: под килем обыкновенной парусной шлюпки устраивает минный аппарат, вооружает таким образом целую серию парусников. Конечно, находятся люди, готовые взять на себя это отчаянное дело. Покушение не удается только благодаря предательству мальчика-рыбака. Тов. Попов (очень старый коммунист) погиб. Больше не видали его длинного сюртука, светлых обмоток и белого веселого шпица – собаки, бегавшей за ним и в ЧК и в штаб флота, – погиб изумительно, под пыткой ничего не сказал. Революционная психология или нет?
Эту книгу посвящаю рабфакам. Пусть ругаются, пусть у них поперек горла застрянет иное еретическое слово.
– «Любили».
– «Прекрасно умер».
– «Психологизм».
Но пусть дочтут до конца о том, как это было, от Казани до Энзели. Как шумели победы, как кровью истекали поражения. На Волге, Каме и Каспийском море во время Великой русской революции. Всё.
АвторКазань
Город еще не взят, но поражение решено. Хлопают двери покидаемых комнат – везде на полах бумаги, брошенные, разрозненные вещи.
Нет хуже отступления. Изо всех углов появляются лица неприметных соседей, не бывшие в течение многих месяцев.
Какие-то пуговицы с потертым блеском, нечто похожее на кокарду, даже на орденскую ленточку, – но это все еще под спудом, в полумраке опустошенных бегством коридоров, не смеющих крикнуть свое трусливое и бешеное «ату его», «ату»! Перед крыльцом – смутный очерк батареи, пыльные, сжатые и злые лица, резкие окрики, – где-то по мостовой грохочут колеса, стучит конница. Готовится последнее сопротивление. Окна дребезжат от несущихся мимо грузовиков – их шумное бегство убивает последнюю надежду, от них страшно.
У дверей, на которых еще ненужно белеют вывески – «оперативное», «секретариат», – несколько женщин прощаются со своими близкими, а за ними по красным половикам наглые лакеи выметают революционный сор – летит пыль, царапают вызывающе щетки. Вот где горечь и грязь неудач – в лакейской метле, выкидывающей за дверь наши неостывшие следы.
Странное это чувство – идти вдоль незнакомых домов с крепко захлопнутыми дверями и окнами; знать, что там, в этой проклятой гостинице, будут драться до последней крайности.
Кто-то должен быть и будет убит, кто-то спасется, кого-то поймают. В такие минуты забываются все слова, все формулы, помогающие сохранить присутствие духа. Остается только острое, режущее горе – и под ним, едва просвечивая, смутное «во имя чего» нужно бежать или оставаться. Сморщенное, захлебываясь от слез, сердце повторяет: надо уходить спокойно, без паники, без унизительной торопливости.
Но когда снаряд шлепается сперва мимо – в болотистый лужок у Кремля, а потом в самый штаб, – где они, где последние, которые уйдут, – когда уже невозможно будет уйти, – все сдержки летят к черту, неудержимо тянет назад.
На мне навешаны бумаги, печати, еще что-то очень секретное, что велено унести и передать в первом штабе, который удастся встретить. Не оборачиваюсь на свист снарядов, которые все чаще ударяют в белый карниз «Сибирской гостиницы». Стараюсь не думать о лакеях, взметающих клубы пыли; о броневике и ужасной, размытой дороге, которой он пройдет – или не пройдет?
Рядом бежит семейство с детьми, шубами и самоварами; несколько впереди женщина тянет за веревку перепуганную козу. На руках висит младенец. Куда ни взглянешь, вдоль золотых осенних полей – поток бедноты, солдат, повозок, нагруженных домашним скарбом, все теми же шубами, одеялами и посудой. Помню, как много легче стало в этом живом потоке. Кто эти бегущие? коммунисты? Вряд ли. Уж баба с козой наверное не имеет партийного билета. При каждом выстреле, при каждой вспышке панического ужаса, встряхивающего толпу, она крестится на все колокольни. Она просто – народ, масса, спасающаяся от старых врагов. Целая Россия, схватив узел на плечи, по вязкой дороге пошла прочь от чехословацких освободителей.
За городом русло беглецов стало мелеть. Женщины, дети, подводы продолжали идти все прямо, не озираясь, не разбирая пути, гонимые могучим социальным инстинктом. Одиночки, шагающие под проливным дождем без пальто и без шляпы, некоторые с портфелем, судорожно зажатым под мышкой, свернули на боковые тропинки или прямо по липкой целине, спотыкаясь, падая, подымаясь опять, вышли ночью к отдаленным деревням.
Летний дождик превратился в ливень, поля почернели и стали нескончаемо тяжелыми. Набухшая синяя туча повисла над Казанью, теперь уже взятой. Орудийный гром притих, и в грозовом небе бесшумно запылали зарева пожаров и далекие зарницы. Вороны скучной стаей потянулись в предместья.
Сколько мы шли и куда – не припомню. Все вспаханными полями, по мокрой глине, задерживающей шаг, в сторону, как мы думали, Свияжска. Во время бегства, особенно в первые его часы, многое зависит от смутного чутья, заставляющего из трех деревень выбрать одну, из нескольких дорог – единственную. Все чувства заостряются – взгляд прохожего, силуэт дерева, лай собаки, – все принимает окраску опасности или спокойного «можно».
Впереди всех шагал с обнаженной головой, в намокшем, нелепо приличном пиджаке ответственный работник товарищ Б.
Этот ничего не понимал в тайных приметах нашей общей дороги – плохо видел, плохо соображал. Ему больше всего хотелось лечь и уснуть после судорожных последних ночей в городе. Вел нас маленький матрос. Своими немного кривыми ногами он крепко обхватывал комья глины, дождь не мешал видеть его единственному, весело синему глазу, и вообще с ним было спокойно. Поспорив с «Портфелем», который несся очертя голову, гонимый ветром и усталостью, он круто взял влево, заставил далеко, чуть не на десять верст обойти первое селение, за которым мы нашли светлевшее в темноте шоссе, и, уже не колеблясь, пришли по нему ко второй деревне. Наш командир скомандовал «швартоваться» и постучал в темную избу. Спали на полу, с восторгом отодрав от ног промокшие тяжелые сапоги. Сено, человеческая духота, лампада в углу. И в полусне, утишившем все отравленные мысли, – еще кусок теплого черного хлеба. Утром оказалось, что вся комната полна беженцев, но в этом никто не сознавался. Начиналась травля, каждый защищался и прятался на свой риск. Наш «ответственный», или, как мы его звали, Портфель, с наивностью истого горожанина и интеллигента решил сгустить свое непроницаемое инкогнито. Его шляпа с проломом куда-то вдруг исчезла и заменилась отчаянного вида кепкой, в которой Портфель сразу стал похож на каторжника.
Хозяином приюта оказался сельский учитель. Ему страшно хотелось взять тон победителя, но побежденных было так много и такого мрачного вида, что он ограничился одними нравоучениями. В общем, добрый был человек, всех накормил даром и честно показал дорогу на Свияжск. Даже до тропинки проводил, размахивая руками и горячась, – мы все-таки немного поспорили об Учредительном собрании. Эта учительская тропинка нас спасла: на большой дороге, которую* выбрало большинство, уже ждали засады.
Свияжск – почему именно Свияжск? Название этой маленькой станции на берегу Волги, сыгравшей впоследствии такую крупную роль в обороне и обратном взятии Казани, ставшей горном, в котором выковалось ядро Красной Армии, возникло, было повторено, запомнилось как-то стихийно, в самый разгар отступления и паники.
Назначил ли штаб местом своего закрепления именно Свияжск, бросил ли это имя в бегущую толпу инстинкт самосохранения, но именно туда стремилась вся волна отступающих.
Гражданская война господствует на больших дорогах. Стоит свернуть на проселок, на тропинку, бегущую по теплым межам, душистым межам, – и опять мир, осень, прозрачная тишина последних летних дней. Идем босиком, сапоги и хлеб на палке через плечо. Матрос где-то подобрал пастушеский длинный кнут и так щелкает им за спиной Портфеля, что тот приседает и готов расплакаться. Нет, надо сознаться, не из храбрых был наш товарищ Б. В деревни мы почти не заходили – и то больше в сектантские: там и чище, и хозяева сочувствуют, и молоко густое, как в царстве небесном, и бабы свежи, как сотовый мед. Ни разу нас сектанты не подвели и не отпустили голодными.
На третий день, впрочем, чуть не попались. Портфель поранил как-то ногу, устал, заныл; два моих товарища моряка до того устали шагать по сухому, глотать пыль и вообще притворяться штатскими, что их объединенное скуление подействовало даже на благоразумие «Мишки» (имя нашего вожака). Он сдался, и после маленькой разведки мы залезли в первую встречную деревню. Сперва все шло хорошо: прохладное крылечко, яйца вкрутую, чай, огурцы и безразличный ко всему хозяин. И вдруг, только мы разблаженствовались, – вынырнул откуда-то господин в синей суконной поддевке, красном кушаке, с бородой «а-ля рюс» – нечто вроде урядника на покое или воинствующего помещика. Наш хозяин только глянул на него боком и стал еще серее и молчаливее. А тот все бегает любопытными глазками от Портфеля к его портфелю, от Мишки, покойно пьющего чай, к очень благопристойно и даже благожелательно настроенным морякам. И начался у нас самый невинный, самый тихий разговор.
«Вы из Казани, беженцы?»
Отвечает за всех предводитель: «Нет, дачники. Ищем домик с хорошим видом на реку и вообще с удобствами. Не порекомендуете ли?» У нашего «старшего» рожа небритая и зверская – он чистокровный южанин, черный, веселый и отчаянный.
Поддевка хихикает: «Ну, господа, не притворяйтесь! Выгнали вас из Казани, здорово выгнали? Вот товарищ даже портфель захватил второпях; да вы, верно, из наших?» – и подмигивает глазом – шариком масла.
Мишка делает вольт. Начинает расписывать подкрепления, полученные Красной Армией: «Помилуйте, двадцатидюймовые орудия из Кронштадта, бомбы, начиненные лунином, – через два-три дня…» – и вдруг пристально глянул на хозяина, повернул голову куда-то в сторону, к открытой степи. Очень далеко маячат тени верховых, как черные иголочки их пики. Поддевка всполошился, но тут Миша так весело опустил руку в карман, а все мы (Портфель, конечно, впереди) так быстро смылись через сад в ближнее поле, что ему не пришлось ничего сделать.
Весь остаток дня проспали в золотых душных снопах, недалеко от дороги. Несколько раз проезжали мимо казаки, и тогда тов. Иподи будил Портфеля, чтобы тот не храпел слишком громко.