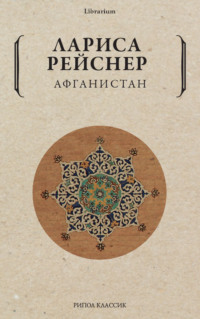Полная версия
Фронт
Белые не отвечают, но в темноте чувствуется их отчаянное бегство. Едва одетые, на своих необъезженных лошадях, они всю эту горячую и долгую ночь проскачут степью, и за ними внезапно воскресший призрак монгольского первобытного страха. Дом Микиты горит, пушки давно замолчали.
Миноносец выбирает якорь и спускается по течению.
VII
Прекрасны старики революции. Прекрасны эти люди, давно пережившие обычную человеческую жизнь, и вдруг на том месте, где обыкновенно опускается занавес и наступает темнота и сон, завязавшие нить беззаконной молодости духа.
Вот Сабуров, Александр Васильевич. Старший его сын убит на войне, жена незаметно свернулась в клубочек легких, мягких пепельно-серых стареющих мыслей и чувств. Сам он прошел всю гамму – от лейтенантских эполет до эмиграции в Париж еще во время Шмидта, в деле которого косвенно был замешан.
В эмиграции Сабуров жил, как тысяча политических изгнанников: из простых слесарей на фабрике дослужи чертовы часы показывали Сабурову пятьдесят восемь лет, когда случилась революция, и он, все бросив, вернулся в Россию, чтобы сразу поехать на фронт в качестве морского офицера.
Наверное, еще переплывая седую Балтику, он сидел где-нибудь один на спардеке, слушая, как тяжелые волны бьются о борта, как торопливо пробегают матросы по палубе, как дышит и курится море, считал свои потерянные годы и видел перед собой свое новое, безумно молодое призванье.
Он приехал на Волгу в разгар чехословацкого наступления, и ему под Казанью дали тяжелую, медленную, зашитую в железо баржу, на которой по очереди грохотали, а потом стыли и курились дальнобойные орудия.
Как он чудесно управлял огнем! Маленький, заросший бородой, из которой виднеется черенок вечной трубки, со своими чуть косыми татарскими глазками и французскими приговорками, Александр Васильевич присядет у орудия, посвистит, помигает, прищурится на узорчатую башню Сумбеки, такую же древнюю, почтенную и внутренне изящную, как он сам, и откроет отчаянную канонаду.
С третьего выстрела в Казани что-то горит, неприятель отвечает, и маленький буксир, пыхтя и надрываясь, срочно вытягивает «Сережу» из-под дождя рвущихся снарядов.
О, эти контрасты: неповоротливая громада и ее безошибочно точный огонь, эти колоссальные орудия и управляющий ими добрейший, маленький, живой Александр Васильевич, который мухи не обидит, но становится безмолвен, холоден, как камень, в самые тяжелые минуты и мимо которого каждый день проходит смерть, слепая, с распростертыми крыльями, влажными от фонтанов отравленной, кипящей и рвущейся воды.
Смерть проходит мимо, не смея оборвать шестидесятого года этой царственной старости.
VIII
Le jour dе gloire est arrivé,
Formes vos bataillons…[2]
Черный и красный цвет окрашивает наши знамена. Черный – в дни медленных похорон.
Через раскаленный город идет отряд моряков-музыкантов.
Трубы блещут, по мертвой мостовой гремят шаги, и флаги кажутся изваянными из черного камня – так они тяжелы и суровы. Складки шевелятся, как в забытьи, и видят сон о глубоком, прохладном небе, о ранней северной весне, о первых чайках над Кронштадтом, о первых снежных каплях, текущих в апреле.
Астрахань вокруг задыхается. Только легким мачтам рыбачьих лодок легче дышать на воде. Город лежит, закрыв глаза, влажный от пота и пыли, не находя отдыха у каналов, где жар курится еще сильнее, пропитанный малярией.
Ровно и ритмично идут через город матросы. Над пустырями, среди развалин и над всей скучной пустыней, из камня и безобразных крыш, парит, трепещет и зовет «Марсельеза». Она коснулась высоких, неспешных нот, уже прошедших всю гамму горя об убитом. Она на вершине. Там, прямо под небом, песня-орлица озирает и видит всю жизнь, которая стелется дорогой далеко внизу без конца и начала.
И видит: вот широкая голубая река, текущая среди соленых песков к морю. Марсельеза крепнет и подымается выше. Гроб тихо качается, прохожие оглядываются на небольшую процессию, на лица моряков, которые и видят и не видят вокруг себя, окутанные горящим вуалем музыки.
А она между тем, опираясь на медь трубы и широкую грудь барабана, приветствует продолговатое судно, идущее против течения по безлюдной, знойной реке. На крыльях памяти траурный мотив следует за ним.
Знамя проснулось и задрожало. Его как бы коснулся свежий ветер с моря, напитанный угольной пылью трех широких серых труб. Моряки не подымают глаз, и, сворачивая к пригородам, один из них вспоминает: это было на «Расторопном».
На минуту в мощном горле труб раздается хрипение слез, но они оправляются, и снова революционный гимн парит и плавает в чистом небе мужества и гордости.
Это было на «Расторопном». Он был в разведке, далеко от своих, и обнаружил засаду на берегу реки. Миноносец открыл огонь из двух орудий, сам расстреливаемый в упор.
И в напряженной суете защиты, когда комендоры, обжигаемые дуновением своих орудий, ищут и меняют цель, звенят пустые гильзы, лоцман боязливо склоняет голову при свисте близких снарядов, когда маленький командир, став на пустой ящик, видит свое судно, от носа до кормы окруженное всплесками и зависящее от малейшей вибрации его голоса и его воли, в это время был ранен и молча умер матрос Ериков. Вот и все.
Марсельеза окончила свой рассказ. Плавно покачивается гроб на братских плечах. Быть может, тот, лежащий внутри, хочет спросить – в последний раз – о своей пустой койке или о том, кто теперь по утрам, стоя высоко на мостике, передает с корабля на корабль изысканную азбуку сигнальных флажков? Но смерть не снимает руки с синевато-белых губ, и никто не слышит несказанных слов. Гроб покоряется, и за ним бегут, расходясь бесконечно, как за кормой корабля, две дружные волны печали. На случайные лица в чужом и враждебном городе они роняют свою чистую и соленую пену.
IX
Ночью телеграмма от Н.
Комфлот идет вниз, чтобы завтра вечером попасть на совещание.
Жаль уходить из В. в разгаре белого наступления, которое продолжается два дня и ночь. На реке редкий артиллерийский гром, армия тревожно спит, не раздеваясь, положив под голову оружие и хлеб. Все огни потушены. При свечах секретарь принимает и передает последние распоряжения, по бумаге бегает нетвердое перо, ветром задувает свет, на который летят тихие темные бабочки. В воде колеблются звезды, и с голосами ночи сливается непрерывное, однообразное стрекотание радио. Вероятно, в перерыве между двух сухих земных телеграмм тоненькая заостренная мачта посылает нежный и неслышный привет небу. Из тускло-голубой тучи ей отвечают зарницы.
X
Полозенко – это огромного роста матрос, тяжелый, медленный, с темным лицом и темными волосами.
За столом невольно замечаются его большие мозолистые руки, быстрые и гибкие, всегда берущие вещи в том месте, где у них скрыта точка тайного равновесия. Все, чего касаются титанические пальцы Полозенко, невольно распадается на равные и пропорциональные части, и эти части в его руке уже живут и поддерживают друг друга в пространстве.
От локтя до кисти на его загорелой руке синеет выжженный японской иглой изящный и грозный дракон. Полозенко – летчик, когда он подымается на своей разбитой, никуда не годной машине, возле которой белеют клубки шрапнели, его рукава засучены, и, обвеваемый бурей, облитый солнцем, гонимый безумством храбрых, он видит на руне непреклонное маленькое азиатское чудовище, ожившее, с клубящейся разверстой пастью и занесенным, как кинжал, острием хвоста.
Тогда Полозенко смеется, ветер срывает с его губ этот смех, в далеко внизу рвется брошенный им чугун.
На днях умер в душной Астрахани шестимесячный сын Полозенки. Он подымается после этого по три-четыре раза в день, вопреки всем предупреждениям. Теперь на его большом лице появилась еще черта – прямая и резкая, как он сам, значение которой неизбежно и непреклонно и перед которой опускаются человеческие глаза, не смея ее узнать.
Этой чертой бессильной силы отмечен Геркулес Фарнезе.
XI
В Астрахани, в Морской госпиталь помещена семья, вернее остатки семьи Крючкова.
Они сидели за нищим обедом, когда случаю было угодно сбродить на их дырявую крышу бомбу с английского аэроплана. Все погибло, разорванное, распыленное, похороненное под обломками дерева и комьями земли. Уцелела мать, мальчик восьми и второй – двух лет, которому пришлось до колена отнять ногу.
Мать после операции двенадцатые сутки сидит на больничной койке и держит на руках бессонного ребенка, который не может лежать. У нее рыжие волосы, широкое скуластое лицо финского типа и ничего не видящие, испуганные животные глаза.
Ребенок на ее руках совсем голый, завернут в белое одеяло, маленький, с огромным пучком марли и бинтов на худенькой загорелой ножке. Руки беспокойно шевелятся, но голова этого двухлетнего спокойна, бледна и осмысленна, как у умирающего бога. Он в изнеможении закрывает глаза, но у него тогда лоб светится такой тайной и мыслью, что мать испуганно перестает причитать и развязный доктор отдергивает от неподвижной щечки свои привыкшие ко всему и неделикатные пальцы. Когда умирают дети, им, вероятно, является вся их не бывшая жизнь, отраженная снами, как зеркалом. За час мучений, за одну ночь бреда они переживают целую жизнь и – отдают ее без сожалений, как великолепное платье, одетое один раз на праздник и снятое навсегда со всеми цветами и благоуханиями.
Веки полуприкрыты и дрожат. На голом тельце жалко заметны пятна грязи, и на повязке все проступает и проступает розовая сырость. Мать смотрит на него неподвижно, оцепенелая. И, сидя на соседней койке, матрос с завязанной грудью вполголоса утешает: не всем нужны ноги. Мальчик умненький, его можно учить и сделать, например, телеграфистом. Почему телеграфистом? Раненый сам чувствует, что сказал неудачно. Но нужно чем-нибудь утешить, остановить слезы, заговорить кровь.
Маленький Федя совсем спокойно смотрит на бинты, которые уматывают с его тела. У него огромная душа.
XII
Бывают дни, когда события растут и сгущаются до крайних пределов. Даже мелочи кажутся многозначительными, восход пророчит долгий и неизвестный день, вечер рдеет и длится, как воспоминание. Становится понятен суеверный страх древних перед криком птицы, падением ка мня, скрипом и перешептыванием мертвых вещей. Откуда спускается на людей, спускается редко, горным туманом на долины, этот страх, это предчувствие неизвестного, это неизбывное томление духа?
Нет, не бои, не раны, не огонь страшен на фронте. Не в бою старятся и дают трещины сильные и молодые, не борьба иссушает нервы и сердце заставляет биться медленно и прерывисто.
Это делает тайная болезнь души; назовите ее как хотите: массовое внушение, паника, навязчивый, ни на чем не основанный упадок – вот неизлечимый и таинственный недуг войны.
Самая здоровая часть может проснуться больной, зараженной, охваченной всеобщим головокружением ужаса. И тогда нужно все величие разума, вся его сосредоточенная, ледяная мощь, чтобы отогнать призраки, которые гораздо опаснее явного врага, и удержать на месте бегущих.
День испытания настал наконец и для нас. Как началось, почему и откуда – никто никогда не узнает. По степи промчался всадник, окруженный облаком пыли.
Вот и все. Конь и седок летят между нашими и неприятельскими окопами без смысла, без цели, гонимые фуриями. Движение лошади, наклон ее головы, хлопья пены на груди и губах, трепетание и хрип – все это слилось в один неудержимый, последний порыв: бежать, бежать, бежать.
Ничто, по-видимому, не изменилось. По-прежнему на синем зеркале реки солнце плавит отображения кораблей, тряская фура, запряженная унылой лошадью, везет раненого, обернутого охапкой свежего сена, а на вышке, где притаился наблюдательный пункт, уже господствует тревога.
В безлюдном поле десятки глаз ищут враждебного движения. Побледневший солдат со всей силой прижал к уху телефонную трубку. И уже они что-то видят – далеко, на горизонте, правее, левее, ближе. Целое фантастическое облако неуловимых врагов – везде разбросанных, отовсюду приближающихся.
По десяти проводам растекается ожидание с вышки в окопы. Где-то выстрел, где-то беспорядочный пулемет. Наблюдатель стоит у перил, не решаясь поднять к глазам бинокль. Его руки дрожат и похожи на концы испуганных крыльев. Подобно электрической волне, страх разливается до незримых пределов. Два любопытных аэроплана чертят небо: они как хищники, почуявшие падаль за много верст. В течение пяти дней этот же наблюдатель, не смущаясь, высматривал со своей шаткой каланчи наступление озлобленных и быстрых кочевников.
С этой же вышки, не думая ни о чем, кроме дистанции и целика, он управлял бурным и разрушительным огнем наших кораблей, хотя волна всадников уже заливала пригород и из-за углов жужжали первые шальные пули уличной борьбы.
Лицо наблюдателя в часы борьбы – отчетливо и просто, как парус, полный ветра, в ровном синем небе.
Пять дней маленький гарнизон спал не раздеваясь, спокойно убирал убитых и, отражая атаку за атакой, просто не замечал ни закатившихся, полуприщуренных глаз смерти, ни ее землистой бледности, выступающей среди обрывков платья. С павших снимали оружие и о них не говорили.
Даже страшное для пехоты слово «обход», даже оно было забыто. И хотя Черный Яр действительно был обойден со всех сторон и только спиной прислонялся к Волге и флотилии, обхода никто не признавал. И вдруг – эта слабость.
Вызванный трепещущими красными флажками сигнальщика с корабля, на вышку приехал старший артиллерист товарищ Кузьминский. Пока он своими морскими глазами щупал сады, овраги, отдельные села, остальные напряженно смотрели на его лицо, наполовину скрытое биноклем, лицо, которое знали и любили: сперва губы сильно сжаты, потом, после первого напряжения, он переводит дыхание, вытирает хрустали. Глаза призрачные, как бы отсутствуют. Как дорогие оптические стекла, они поставлены сейчас на большое расстояние и не могли бы ни читать, ни улыбаться. Опять молчаливое наблюдение. Потом щеки, редкая черная борода, хищный нос – вся маска воинственного фавна приходит в движение. В улыбке блеснули золотые зубы. Бинокль отложен, глаза уже вернулись в себя – они человеческие и лукавые.
– Товарищи, да ведь это же не конница, а коровы.
На вышке сразу успокоились. Но через час напряжение опять возобновилось, и все росло, и стало мучительным.
Степь по-прежнему спокойна, из песчаной и дымчато-серой голубеет и розовеет к закату. И постепенно, не сговариваясь, наблюдатели отвернулись от далеких очертаний монастыря, откуда все утро ждали зла, и не могли уже оторваться от широкого степного моря, открытого и освещенного на сотни верст, где не видно ничего, кроме медленных огромных орлиных полетов.
И спокойный, почти мечтательный, похожий на человека, которому слышна отдаленная подземная музыка, опять вернулся на берег артиллерист и не колеблясь назначил сложную и совершенно неожиданную дистанцию своим дальнобойным морским орудиям.
Одинокий выстрел как-то неслыханно громко прокатился в степь – и снова все умолкло.
Ветер погладил ковыли, они стали под его рукой серебряные и поклонились до земли.
На вышке, в окопах, на мачтах, куда забрались марсовые, – везде напряженное ожидание.
Неужели тонкий математик Кузьминский ошибся, ошибся со всем своим инстинктом ученого и солдата, и брошенный им в неизвестность снаряд мирно разорвется в поле, никого не задев, к ужасу полевых цветов, уничтоженных огнем и отравами.
Еще два раза с большими перерывами ударили по тому же направлению и с тем же результатом. И вдруг команда – «беглый огонь».
Они появились как бы из земли, густыми, черными колоннами, выбитые из оврага жестоким огнем. Их было три тысячи, калмыков, черкесов и казаков, приготовленных в пятнадцати верстах от Черного Яра для ночного набега.
Они уходили, теряя людей на каждом шагу, неутомимо-озлобленные против этих северян, шесть дней простоявших на месте и чудом избежавших резни.
По извилинам карты, по слабому намеку моряк предугадал целую повесть: бурный летний дождь, крохотную балку, размытую ливнем в целую яму, и тихую ночь, когда, скользя копытом по глинистому скату, фыркая в темноте и под мохнатой мокрой буркой зажигая спичку, спустилась на ее дно кавалерия.
О, как спали следующую ночь в Черном Яре. Как весело чистили лошадей и оружие и как легко перешли на заре в наступление.
Лето 1919 года
I
Началось наступление.
После боев отряды флотилии настолько сблизились, что могут непрерывно сообщаться по радио.
Корабли живут напряженной тайной жизнью: ведь они пробиваются к морю. Ежедневные походы, самая осада Царицына, которая будет жестокой, совершаются сами собой, как во сне. Главное – морская карта Каспийского моря, над которой по вечерам текут молчаливые часы размышлений.
Эта карта не похожа на обычные речные – воды испещрены на ней плавными линиями течений, звездами маяков и бесчисленными знаками предостережений. Она очень глубока в своем строгом черном и белом цвете. Эти извилистые черты берегов, хитрые мели, стремительные потоки, несущиеся от края до края, наконец ямы, уходящие в неизмеримую глубину и на поверхности тихие, как озера: сколько раз фантазия шествует через них, не замочив крылатых ног.
Слабый свет лампы лежит на лицах, на склоненных к столу – шахматной доске. Они играют с партнером, находящимся за сотни верст, по ту сторону лукавой, трудной карты, в Баку, Порт-Петровске и Эмбе.
Иногда глаза наоперов застилаются туманом в предвидении отдаленных ходов, иногда краска приливает к вискам теоретиков: среди тысячи возможностей им блестит победа, потом опять грызущие сомнения перед двумя равноценными ходами, перед соблазнительным, легкодоступным входом в безопасную, голубую персидскую бухту.
Есть теоретически неразрешимые узлы…
Тогда по волнам летит корабль Летучего Голландца, невозможное становится возможным, падают преграды, тает туман, и дерзкая ладья готовит шах белому королю.
В ожидании похода старые матросы много курят и много молчат, улыбаются неизвестности и пишут длинные письма домой. А молодые испытывают какую-то особенную радость и полноту жизни.
Будут долгие дни без берега, без женщины, а потому особенно великолепным кажется лето, которое шествует по пояс в виноградниках и до кудрей погруженное в спелые ржи. Никогда ночи не были полнее звездного свечения, степь не цвела белее и пьянее под ризой мелких сухих цветов, никогда кровь не пела веселее в такт бегущему коню.
Поле кажется морем, солнце печет, золотисто-рыжий жеребец легко дышит и легко бежит, ветер отодвинул с диких глаз бронзовую гриву, и лебединый, широкий шаг укачивает.
О море, о синее море!
II
О море написано бесконечно много. Оно шире гекзаметра, громче славы, и нет человека, чья усталость и печаль не исчезли бы в его далях. Все остается позади, когда беспорядочный плеск реки вдруг тонет в победоносном голосе Каспия.
Ночь. Холодное небо в редких крупных звездах, и луна окружена невыразимо белыми молодыми облаками. Волга идет навстречу Каспию, все шире раскрывая объятия, идет тысячами рукавов, и ее плечи теряются в тумане. Иногда парусник снежно пройдет мимо на своих ласточкиных крыльях, озирая взморье, где не должна проскользнуть ни одна лодка лазутчиков.
Иногда винт запутается в рыбачьих сетях и долго тянет их за собой, как водоросли, – если лоцман не заметит спящей лодки, которая стережет свой улов.
Никто не спит. Лунный свет скользит по давно знакомым фигурам. Черноусый рослый пулеметчик, и коротко остриженный затылок «флажка»[3], и обычно вялое, а сейчас охваченное тоской о море, широкое лицо боцмана. Красивый юнга присел на корточки и грезит: тоже морем.
Только узкая полоска Каспия принадлежит нам. Но и этой полосы, где весь поток Волги не может заглушить соленой горечи прилива, ее уже достаточно, чтобы опьянить навсегда.
Очень медленно, издалека начинается день.
Корабли в море становятся видны за много верст, вырастают фантомами, кажутся неподвижно далекими островами. Черная, как скала, плавучая батарея; возле нее семейство крылатых шхун, и на горизонте дымки остальных.
После отчаянной качки на катере – необычайное спокойствие огромной железной палубы, середина которой едва заметно дышит.
Чай дымится в жестяных кружках, которые медленно и застенчиво расставляют серьезные матросские руки. Почти два часа незаметного похода – вся ночная усталость тает в равномерном скольжении, в трепете воды со всех сторон. Дремота сглаживает последнюю резкость очертаний, и кажется, у самого изголовья движется рейд.
И нервами, всей способностью осязать, всем существом люди предчувствуют и знают цель похода по утреннему морю; знают и еще два часа могут спокойно отдыхать, развешивать выстиранное белье на припеке, и курить, и дремать. Только лица – спокойно напряженные, как улыбка сквозь дурной сон.
У старинных кораблей на носу, лицом к ветру и высоко над водой, там, где только в бурю курится и плещет пена, прикреплялись точенные из дерева фигуры: наяды, и орлицы, и святые девы, руками и складками плаща хранившие свое судно от несчастья, – так вот у них в очах, неподвижно вперенных вдаль, это же выражение воли, застывшей как бы навек.
Наконец и боевая тревога, и силуэты врагов вдалеке, и остов их потонувшего на мине парохода «Араг».
Становится страшно легко и празднично. Нет лукавых извилин реки, ее засад и вечной тесноты. Белые со всех сторон, и открыто совершают свои маневры. Две подвижные тени кружатся около тяжелой, неповоротливой, похожей на наш плавучий форт, упорно не открывая огня и соблазняя приблизиться.
Гораздо правее на горизонте еще четыре дыма, всего семь белых против четырех красных. Мы останавливаемся – начинается артиллерийская дуэль. Белые обеспокоены – первый залп дымится у них за кормой. Они не знают, что сегодня огнем управляет скромный невзрачный человек, с русой близорукой головой мыслителя, для которого вся жизнь сосредоточилась на корабле и который всю нежность и творчество своей молодости, поглощенной нищетой и наукой, сосредоточил на боевом огне, на дальности его в точности, на тончайших оттенках и особенностях орудий.
Белые хорошо отвечают. Большой незнакомец оказывается обладателем шести пушек, и у нашего борта дымятся рядом три могучих всплеска. На воде крупными рыбами блестят и трепещут осколки, и потом доносится запоздалый вой и свист разрываемого воздуха.
Спустя неделю, когда на батарее не было холодного Соболева, ее командир, старый матрос одиннадцатого года Елисеев, сошелся с «Хаджи-Хаджи» вплотную, сам получил тридцать девять пробоин и сбил у белых одно орудие. Комиссар, с железом в боку, не ушел с мостика. Капитана унесли умирающим.
С моря мы шли туманом, и только утром из него вышла теплая, веселая земля.
III
Эдгару По ворон явился в худшие часы его жизни. Черный ворон влетел в окно и, одинокий, сел на мраморном челе Афины-Паллады. Ворон – страж бесконечности, благородный свидетель горя, пустынник и судья.
Но с тех пор как высшая и лучшая жизнь ушла из траурного кабинета идей сперва на улицу, и дальше, за пределы города, – не слышно больше возвышенного и высокого клича. Осиротелый ворон распростер свои ночные крылья, украшенные оттенком седины, и между складок вечно трепещущих занавесей улетел и скрылся в утренних сумерках. На вспаханном поле, среди влажных комьев земли, над которыми уже парят пепельные нити ранней осени и дымится туман, ворон совершил долгую прогулку, одинокую и молчаливую.
Важно переставляя свои сильные ноги, наклоняя голову то направо, то налево, он шагает по пашне «походкой лордов» и не прикасается к низкой земной пище.
Иногда из его пурпурного горла вырывается хриплый возглас, от которого утренний ветер становится холоднее и которому не смеют отвечать невежественные сельские птицы. «Никогда, – восклицает ворон, – никогда!» Это крик монаха в черной рясе, который не верит великим переменам и освобождению пленника, одиночество которого он злорадно наблюдал в течение долгих ночей. И, взмахнув суровыми крыльями, с карканьем, похожим на захлебнувшийся смех и странное клокочущее воркованье, он улетает на юг.
Ворон достиг печального города, расположенного там, где голубая река впадает в мертвое море, безвыходно замкнутое сушею со всех сторон. Тепло и запах лета коснулись его утомленного тела, и, черный, он приблизился к зелено-желтой воде.
Здесь, в легком царстве приливов и отливов, рыбачьих сетей и тростника, господствуют чайки. Весь день с жалобным криком они рассекают молочный воздух крыльями, узкими и выгнутыми, похожими на новорожденный месяц. Их глаза блестят черным жемчугом в белых и розовых раковинах. Сухими кисточками пальцев они касаются воды и улетают, роняя вырвавшуюся рыбешку или разорванные четки брызг.