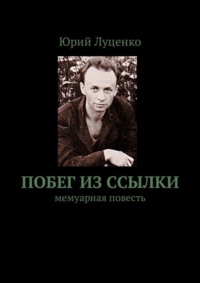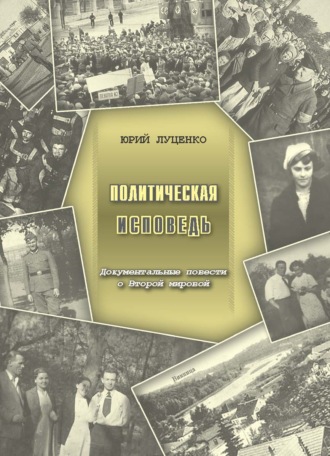
Полная версия
Политическая исповедь. Документальные повести о Второй мировой войне
‒ Лапти твои целы? Я бы купил их у тебя.
На мой удивленный взгляд он, смутившись, объяснил:
‒ Я все детство проходил в такой обувке. Жили бедно…
Его звали Александр Вежелебцев.
Через несколько дней по его просьбе прораб перевел меня на другую работу: готовить дрова для костров, разгружать трактора со шлаком, чистить снег с дорожек, следить за тем, чтобы была вода для питья, и выполнять разные мелкие работы, не требующие специальных навыков.
И еще прораб поручил мне составлять строевки и относить их в контору лагеря. Строевка – это такой немудреный ежедневный рапорт о количестве заключенных, выведенных на объект. Сначала эти документы подписывал он сам, а потом велел мне:
‒ Подписывай-ка ты… – Фамилия его была Похлебник, и он стеснялся лишний раз ею пользоваться.
Я был горд поручением, мне никогда в жизни еще не приходилось подписывать какие-нибудь документы! И я с удовольствием стал при всяком удобном случае разрабатывать свой росчерк. Мне нравилось и то, что я должен носить с собой бумагу и химический карандаш. И что я стал вхож по службе в контору лагеря.
Однажды все тот же Александр Вежелебцев (может быть, за то, что я напомнил ему его детство, а может, просто потому, что уже появилось над горизонтом долгожданное солнышко и люди, почувствовав приближение весны, стали сами чуточку добрее) повел меня в зону каторжан. Их бригады трудились рядом с нами, заключенными. Выполняли они основную – не только самую тяжелую, но и наиболее квалифицированную – работу.
Зона их примыкала к общей – производственной.
Весь инженерно-технический и обслуживающий персонал стройки, включая главного инженера и двух прорабов, были каторжанами из этой зоны и, как и все, отмечены были номерами на спине, колене, рукаве и шапке.
Мы же, заключенные, носили такие же знаки на спине и рукаве.
Вот и вся между нами разница.
Сроки у них были в основном 15 и 20 лет, а в нашем лагере, среди заключенных, сроком в 20 лет награжден был я один. И на меня поглядывали как на пугало огородное. Получалось, что я по своему правовому статусу больше подходил к каторжанам. Да я бы с радостью перешел в их зону! Там почти не было воров. А те, которых судьба туда занесла, не особенно свое звание и рекламировали. Не было там наглого произвола, казалось, было больше справедливости и порядка внутри зоны.
Несколько месяцев я раздваивался: работал среди каторжан, а ночевал «дома» – в зоне кирпичного завода. За это время появились друзья, добрые товарищи и среди каторжан, и среди заключенных. Да я и сам, хотя еще постоянно голодный, постепенно становился похожим на нормального человека.
В лагерях считалось дурным тоном спрашивать, что написано в личных делах, кто за что сужден. И так было видно, что огромное большинство и каторжан, и политических стали жертвами режима или обстоятельств. Изредка встречались идейные – бойцы против системы. Больше всего – из среды бывших военнослужащих. Они и в лагере выделялись своим поведением, самодисциплиной и уважением к себе и к людям.
Я исподволь присматривался к взаимоотношениям между людьми в той и другой зонах, сравнивал и старался учиться всему, что могло пригодиться для того, чтобы найти там свое место и элементарно выжить. Впереди ведь было целых восемнадцать лет!
Я хорошо понимал, что мое нынешнее благополучие относительно, временно и основано на добром отношении Вежелебцева. Как только его сменят (а их часто там меняли, чтобы не обвыкались на одном месте), мне опять придется браться за мои «любимые» кирку и лопату.
Несколько раз меня задерживали на работе, и тогда по просьбе главного бухгалтера или главного инженера начальник конвоя отводил меня одного «домой». Мы шли с ним по пустынной дороге рядышком, как два хороших приятеля, и мирно разговаривали. О многом рассказал я ему из своей жизни. А он слушал с интересом… и не осуждал меня.
Один раз Саша Вежелебцев он очень торопился по каким-то своим делам и с половины дороги отпустил меня одного. Целый километр до вахты я должен был идти сам, без сопровождения. Я был в шоке, и больше всего боялся, что он за это получит неприятности.
И он осмелился на такой поступок, хотя я рассказал ему о том, какой я «опасный преступник»! Потом, когда я поделился своими страхами, он посмеялся:
‒ Да куда бы ты делся здесь, вот такой-то?
Однако оказалось, что благоприятное время для меня еще не наступило, мой «фарт» только набирал силу, только приближался.
Сначала пришла еще одна посылка из дому.
Вообще я, по моим подсчетам, за время заключения получил шесть посылок. Это было в 1946‒1948 годах. Нам тогда разрешили получать по две посылки в год и по три письма.
Отдав воровской «малине» и бригадиру все, что «положено» по лагерным неписаным законам, я постарался угостить хоть чем-нибудь каждого, кто относился ко мне благожелательно, кто помогал хоть чем-то, кто был добр ко мне. Таких набралось неожиданно много.
Это оказалось мудрое решение, потому что остатки продуктов хранить все равно негде, а носиться с ними в камеру хранения я считал постыдным. И все это у меня обязательно бы украли, когда бы я пошел на работу.
В конце лета в плановом отделе лагеря, куда я принес свою «строевку», как делал это ежедневно, мне сказали, что меня хотел видеть сам Герцог – всесильный бухгалтер лагеря по продуктам.
По его словам, они несколько месяцев изучали меня и решили на совете бухгалтеров, что я им подхожу. Мне предложили занять укромное место за столом у самого барьера – счетовода по вещдовольствию. Это было много больше того, чем я мог ожидать от жизни в ту пору. Фортуна повернулась ко мне лицом как-то сразу, неожиданно. И каждый день потом на этой работе я ощущал, что такое благополучие не по мне, оно временно. Я ведь был единственным в этой зоне богатым на срок, а кроме того, еще и отмеченным позором «Известкового». И много ли здесь зэков с черной меткой «ООП» – организации СМЕРШ?
Может быть, состояние обреченности сыграло со мной злую шутку, но все же на этой должности мне удалось продержаться почти семь месяцев.
В зоне Кирпичного я во второй раз в жизни прошел школу своеобразного солидаризма на практике. У меня уже создался своеродный стандарт для определения признаков этой системы, и я часто искал их даже там, где системы не было.
Но здесь солидаризм все-таки был (хотя раньше, до моего появления, «это» так не называлось)! Особые люди и особые условия, каких не было в других лагерях…
Во-первых, в зоне не было своего «кума». «Оперативный работник» приходил из соседней зоны и осуществлял свою «полезную» деятельность хоть и очень рьяно, но все же только по совместительству. Его не любил к тому же директор Кирпичного, который заодно был и начальником зоны. Он считал, что интересы у них прямо противоположные и часто мешают друг другу. Для нас главным было то, что «кум» категорически возражал против назначения на ключевые должности в лагере «политических», а начальник лагеря – наоборот. Он ненавидел воров и находил в хозяйственных делах общий язык только с «контриками».
Во-вторых, в зоне кирпичного завода никто не «держал» зону, как это было в других лагерях. Все зэки трудились, и «малине» из числа строителей не давали возможности не только наводить свои порядки, но и голову поднять. Почти никто никого не объедал, как принято в других лагерях. Потому что если рабочий Кирпичного был голоден, но здоров, он имел возможность подработки на хлебозаводе или на продуктовом складе.
В-третьих, основной контингент зоны состоял не из русских, а из немцев Поволжья, прибалтийцев, румын и западных украинцев. И из-за этого там возник особенный микроклимат.
Еще в 1942 году на Кирпичный завод привезли из поселка на Волге учеников местной школы и с ними двух учителей. Учителя по привычке и здесь занялись воспитанием своих питомцев. Один из них вскоре умер, второй – Франц Мартынович Муншау – успел сделать карьеру.
В 1956 году Муншау работал экономистом (должность в лагере всегда почитаемая) и являлся «авторитетом» и для своих бывших подопечных, и для коллег по работе, и для руководителей лагеря. Раньше он был шефом только для своих учеников. Но ученики выросли, возмужали, а он, оставаясь для них все тем же «батей», постепенно расширил влияние на всех окружающих. Так создался «класс учителя Муншау». К тому времени, когда я попал в зону, в сфере влияния этого «класса» были уже и латыши, и татары, и русские, и украинцы…
Меня, как оказалось, помог выудить со стройки тот же Франц Мартынович. Это ведь ему я носил свои «строевки». Однако заправлял тогда «классом Муншау» уже совсем другой Мартынович – Карл Мартынович Бредис – старый, мудрый и дальновидный латыш. Вообще-то, по должности он был всего лишь заведующим продуктовым складом. Но им, как человеком с проверенной много раз репутацией, очень дорожили начальник снабжения и сам начальник лагеря.
Эти умудренные опытом люди, оказавшиеся в немилости у большевиков, внесли кое-какие коррективы в мое лагерное воспитание. И помогали, чем только могли.
Я тоже старался помогать другим, если представлялась такая возможность.
Когда я попал в беду (меня почему-то отстранили от должности и посадили в «маленькую тюрьмочку»), Карл Мартынович каким-то образом переслал «маляву» на Центробазу ОТС. В ней он просил содействия у главного инженера Гафарова. И тот – в прошлом тоже участник солидарной помощи «класса Муншау», за год до этого вышедший на свободу, – сразу откликнулся. Это Гафаров забрал в другую зону для работы на базе с нами и всю бригаду блатных, которую держали в БУРЕ и не хотели принимать на Кирпичном. Через месяц всех воришек уже отправили дальше по эстафете, портного пристроили работать по специальности в городском ателье, а я так и остался при бухгалтерии Отдела технического снабжения комбината.
Я поделился с друзьями из зоны Кирпичного политическим секретом, скрытым в названии «солидаризм». И они, ненавидевшие всякие «измы» в одном комплекте с коммунистами, согласились все же, что используют именно эти принципы в своем обществе.
То были годы, когда многие особенно сильно предощутили новую эпоху в стране. Это предощущение приходило не из центра, оно начало ощущаться там, где созревала «критическая масса» сопротивления, где копилась черная энергия бунта.
Только что на Воркуте завершилась большая «сучья война». О жертвах, понесенных воровским миром, никто, конечно, не сообщал общественности, но слухи ходили, что погибли несколько сот человек.
Вскоре прорвался нарыв и на Северном Урале. Восстание там носило политический характер. Политзаключенные сумели организоваться, и воры их поддержали. Вооружились и завоевали временную власть строители «501-й стройки» – строители дороги с Северного Урала до «Заполярной кочегарки».
До Воркуты докатились и слухи, и тяжелое дыхание бунта вместе с отголосками о кровавых схватках. Плакали на работе женщины – жены надзирателей: их мужей срочно призвали в мобильные воинские подразделения.
Северный Урал рядом с Воркутой. Заснеженные вершины гор в хорошую погоду, как на рождественских открытках, видны на горизонте из зоны «Кирпичного». Отряды восставших напрямик, через болота тундры рвались к Воркуте. Не дошли всего 35‒40 километров. С каждым километром их продвижения росло и напряжение в лагерях Воркуты. Если бы им удалось пройти совсем еще немного, еще бы всего несколько дней – и трудно было бы сдержать уже энергию устремления им навстречу.
Но не прошли.
Они были бессильны против танков и самолетов. Восстание потопили в крови на болотах тундры.
Надежды рушились, наступила и на Воркуте пора черной реакции. Чекисты опомнились, заволновались и принялись готовить базу для раздельного содержания бытовиков и «контриков». Шли слухи, что на севере Воркутлага для нас готовится новое формирование, названное Речлагом. Там по-особенному «благоустроенное» жилье и совершенно особые условия труда. Там строили зоны с оградой из целиковых сосен, с проволочным заграждением в несколько рядов. Готовили бараки с постоянными замками для «спокойного отдыха», шили особую форму.
Туда вербовали надзирателей из демобилизованных солдат войск НКВД, наиболее дисциплинированных, с особенными требованиями к заслугам в их биографиях. И заработную плату им обещали много выше, чем у обслуживающего персонала в обычных лагерях.
Шахты подбирались для такого контингента с самыми тяжелыми условиями, наименее удобные для разработок. Пласты залегания угля на них очень низкие – немного больше метра. И работать там приходилось на коленях или даже лежа. К тому же еще и загазованность высокая, с большой примесью серы.
Но все это нас мало пугало. Наступило время безразличия к своей судьбе, и просто надоело бояться.
Многое из того, что говорили о тех лагерях, оказалось правдой. О режиме, об особом отношении к нам, заключенным и каторжанам, о сложности работы в шахте и на поверхности, о воздухе, отравленном тлеющим углем с примесью серы…
Весна 1949 года в новой зоне оказалась для меня крайне неблагоприятной. Тяжелая работа по вывозке шлака из котельной со слабой вентиляцией, недостаточное питание, бытовая неустроенность и постоянное чувство безысходности выматывали последние силы.
Хуже всего было то, что с изменением моего адреса прервалась переписка с домом. Ни одной посылки, ни одной строчки. Я написал положенное по режиму мне письмо, потом еще несколько, переслал их через друзей на шахте через вольную почту – ответа не было. Мы потеряли друг друга в этом огромном, враждебном мире. Я места себе не находил в постоянной тревоге за своих близких.
Еще совсем недавно безразличный к религии, теперь я каждый вечер, ложась спать, просил Бога о помощи для своих родных в это нелегкое время. Я был слаб, деморализован и постоянно голоден.
Но не мог, язык не поворачивался просить помощи у кого-либо из старых товарищей, которых собралось в новой зоне достаточно много. Хотя устроены многие из них были, по местным меркам, довольно прилично. Но ведь друга можно приветить, угостить, накормить один раз, ну второй… а потом наступит такая же безысходность.
Даже тошнее, еще хуже…
Появилась однажды иллюзорная надежда на помощь от «воспитанников класса Муншау». Только мало что зависело от тех, кто пытался мне помочь. В основном это был пожарник Яша Юнгман. Для другого «воспитанника» оттуда – начальника пожарной дружины – нужно было встречное движение. Мне самому следовало чем-то проявить себя.
Яша переживал за меня больше всех, изредка подкармливал, приворовывая что-нибудь с общего стола пожарников. А еще постоянно напоминал своему шефу о долге по отношению к «товарищу в беде».
Нужно было и мне мобилизоваться внутренне, обрести уверенность в себе, но никак не удавалось перебороть настроение и хоть как-то попытаться переломить события.
ГУЛаг, нужно сказать, вообще великолепная школа для всех, кто хочет и умеет учиться. Сильные там сдавали экзамен на право существования, слабые – понемногу отсеивались и уходили в небытие.
Действовал закон Естественного отбора!
Опускаться даже на короткий период и плыть по течению было смертельно опасно.
На соседних нарах или на общей работе, в одной бригаде иногда встречались люди, каких на свободе и встретить невозможно, из другой плоскости, из другого измерения. В лагере в одну упряжку с бездарью, серостью были впряжены люди мудрые, талантливые, душевные, отмеченные искрой Божьей… Было так и в тюрьмах, на пересылках, в рабочих зонах – на всем тернистом пути. А на Севере особенно часто.
Как часто вспоминалась мне встреча и скоротечная дружба с юристом Митрофаньевым еще в первый год прохождения «моей службы» в Воронежской тюрьме… Встреча, которая оставила очень глубокий след во мне… И спина сама выпрямлялась. В большой «общей» камере он создал консультационный пункт защиты прав человека, но главное – самоуважение, авторитет «контриков» (обвиненных по 58-й статье Уголовного кодекса) сумел поднять выше, чем звание «вор».
Или встречи с экономистом Теобольдом Боосом. Это и есть тот самый «таинственный незнакомец», который дважды спас меня от неминуемой смерти на «Известковом». Должно быть, в «благодарность», тоже по какому-то наитию, я – не узнав его! – как сувенир на память, прилепил ему кличку позже «Тоби-Бобо». И написал о встречах с ним вою первую повесть.
Таковы создатели «класса Муншау», два Мартыновича, о которых я уже рассказывал; они ушли в туманное прошлое, но след свой протянули сюда – в настоящее.
И начальник конвоя Вежелебцевым, которому по Уставу, по должности надлежало быть со мной злым и недружелюбным. А он несмотря ни на что остался в моей памяти добрым гением. И только много позже я сумел понять, как же ему, с таким сознанием, непросто жилось в его окружении.
Всем им, кто остался личностью в тех экстремальных условиях, и названным мною, и десяткам других, из моей памяти уже не уйти.
Знал я Игнатьева, главного механика линкора, на котором маршал Тухачевский ходил в Англию представлять Советский Союз при коронации королевы Елизаветы. «Дело» механика после расстрела маршала оказалось утраченным в блокаде Ленинграда. Возникла угроза бесследного исчезновения и его самого. Ведь тогда так часто бывало.
«Нет человека – нет проблемы» – так говорили вожди.
А у Игнатьева было уже пятнадцать лет лагерного стажа, из них три – без определенного срока, он был «пересидчиком», и конца этому правовому состоянию никто не видел.
Теперь уже мало кто знает, что значит «пересидчик». Представьте, как чувствует себя человек, у которого срок закончен, а на волю не выпускают. И год проходит, и два, и три… А спросить некого – война должна была за все ответить.
Игнатьев был моим соседом по нарам и добрым приятелем. А в шахте – очень талантливым, «теневым» механиком. Он исполнял обязанности многих «главных» – с разноцветными дипломами и «красными корочками», на высокой зарплате да с постоянными премиями. Они часто менялись, а он просто честно работал.
Окружающим казалось тогда, что он утратил чувство справедливости, привык так жить и перестал задумываться о своей судьбе. А он, презирая самую суть своих начальников, просто служил механизмам, работающим в шахтах, жалел их, как прежде тех, что были под его началом на морском корабле, и почитал эти горы металла почти живыми и одушевленными своими товарищами.
Я не только уважал его, я восхищался им!
И еще один эпизод.
В короткий период моей работы на Центробазе ОТС, коротая время в выходные дни, мы посвящали его искусству. Для этого приносили в лагерь отбракованные электрические лампочки и испачканные с одной стороны куски чертежной бумаги. А стройный старец с седой бородой и детскими глазами – художник из Питера Андрей (кажется, Милентиевич) Геращенко – усаживал вокруг себя на хорошо освещенной площадке посреди барака всех, кто желал участвовать в этом священнодействии, и проводил много часов, посвящая в секреты портретного рисунка. Рядом, плечо к плечу, с полным взаимным уважением друг к другу, трудились и воры, и «контрики». И в желающих попозировать мы недостатка никогда не испытывали. А сказочный Север сам позировал Геращенко. Со своей величественной красотой он неиссякаем для тех, кто хочет и умеет ее рассмотреть.
Для нас это был прорыв в искусство, работа «для души», особенно ценная в тех условиях. И в благодарность старому художнику мы помогали отправлять миниатюры в Ленинград, его дочери. Это уникальная коллекция, если ей удалось сохранить шедевры!
Память о большом Художнике и его науке неожиданно, на уровне подсознания пришла мне на помощь, когда духовные и физические силы опять оказались на исходе, а положение стало безвыходным. Был обычный выходной день по «скользящему графику», и мне предстояло еще несколько часов тупо наслаждаться «покоем и свободой» грязной постели в углу темного, сырого и холодного барака.
Но я почувствовал, что у меня вдруг «зачесались» в забытой истоме мои избитые о железо тачки и обожженные руки. Поднимался я со своей опостылевшей постели тяжело (именно это запомнилось мне с особенной ясностью!). Вставал через силу, с большой неохотой. Из своего заплечного мешка, которые в лагере иронично называли «сидорами», очень бережно извлек я давно заготовленные и сложенные в плотную пачку квадратики чертежной бумаги, несколько кнопок и специально подобранный набор карандашей различной твердости. К этим принадлежностям я не осмеливался прикасаться со времени приезда в «особорежимный» лагерь.
Потом я, словно живого друга, призвал на помощь светлую память дедушки Геращенко, устроился поближе к свету и, постепенно разминая одеревеневшие пальцы, принялся переносить на бумагу с фотокарточки изображение милого лица жены бригадира со значительным увеличением. Опыт оказался удачным.
Я отвлекся от своих дум, в каком-то упоении провел два часа. А кроме того, для всех окружающих я в тот вечер превратился в другого человека. И заработал при этом себе отгул еще на один день, с горбушкой хлеба в придачу.
Пожарный начальник, второй ученик Франца Муншау в этом лагере, Николай Шмидт пришел ко мне сам, в сопровождении того же Яши. Я сразу стал ему очень интересен: он, как только узнал от Яши о моем «таланте», тут же наметил план мероприятий, чтобы использовать меня в своей пожарной карьере. По его мнению, требовалось многое:
– изменить категорию труда по в моем «деле» (а категория эта устанавливалась врачами при ежегодном комиссовании);
– добиться моего открепления из списочного состава шахты;
– добиться включения в штатное расписание пожарного отделения еще одной единицы;
– добиться разрешения капитана – начальника отдела районной пожарной охраны.
Все это, считал Николай, с помощью «моего таланта» и «нужных людей» – «квартирантов», которые полузаконно поселились в его «Пождепо», было вполне преодолимо. Он стал очень энергичен, мой товарищ по «классу Муншау», как только почувствовал, что от меня ему может быть какая-то польза.
По его просьбе уже начали содействовать его «всесильные квартиранты»: Грек – главный экономист лагеря Иван Константинович Панаиотиди и заведующий продскладом Алексей Андреянович Соболев. А им, был уверен Шмидт, все под силу!
Однако еще один пункт «мероприятий» вызвал отбой с моей стороны. Мне самому – лично – нужно было идти за подписью о разрешении к «куму». К тому самому оперуполномоченному, тоже очень энергичному, к которому «прилипало» все, что пыталось проскользнуть мимо. Я поблагодарил Шмидта за хлопоты и наотрез отказался участвовать в такой затее. Чем вызвал ужасное недовольство «шефа»… и интерес к своей особе у «всесильных квартирантов».
Соболев отреагировал оригинально:
‒ К этому? – переспросил он с явным презрением. – Да запросто! Сей момент! Да он сам принесет мне такое разрешение.
«Этот», как оказалось, находился в постоянной «продовольственной» зависимости от Соболева.
А «Греку» мой отказ понравился просто по-человечески, он обратил на меня внимание и очень помог в устройстве дальнейшей моей судьбы. Только помощь его была не в том, чтобы сделать из меня пожарника. Он призвал меня в свой плановый отдел – бухгалтером по расчетам с шахтой за эксплуатацию «контингента заключенных».
Для изменения категории труда в своем «личном деле» мне пришлось по блату еще больше двух недель проваляться в отвратительной лагерной больничке. И по роковому совпадению я приобрел там еще одну отметку судьбы – не мнимый, а настоящий диагноз хронического заболевания почек.
Когда работа в котельной на шахте уже осталась в далеком прошлом и все мои действия стали наполняться надеждой на улучшение жизни в ближайшем будущем, вынужденный «отдых» в больнице стал представляться вполне сносным. И себя тогдашнего – молодого, тощего, коротко остриженного, с «мольбертом» и карандашами в руках, только привыкающего к новому для меня званию «художник», – видел не совсем еще потерянным, не опустившимся под грузом насущных лагерных проблем.
Однако картинки того периода, глубоко застрявшие где-то в тупиках мозговых извилин, толкают и на другие воспоминания. Меня, как ни странно это звучит, отказывались тогда выписывать из больницы на вполне законном основании: уровень белка и лимфоцитов в моей моче не хотел снижаться, несмотря на диеты, уколы и целые пачки каких-то лекарств. Так что выписался я наконец тоже по большому блату. Да еще для гарантии подменив мочу при анализе.
А в больнице у меня была бездна свободного времени. И тратил я его щедро: и на портреты товарищей для отправки домой, и на добровольную помощь фельдшеру в его работе – он был там один, а больных – более сотни. Но в основном свободные часы я проводил в одиночестве, в своих «глубокомысленных» размышлениях. И мне никогда не бывало скучно с «самым умным человеком» – с самым собой.
Мысли я отпускал в самостоятельную прогулку. Казалось, что они не рождаются в моем мозгу, а приходят сами, готовые, откуда-то извне. И роятся в фантастических комбинациях, по своему собственному сценарию.