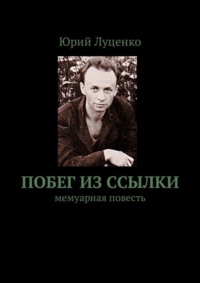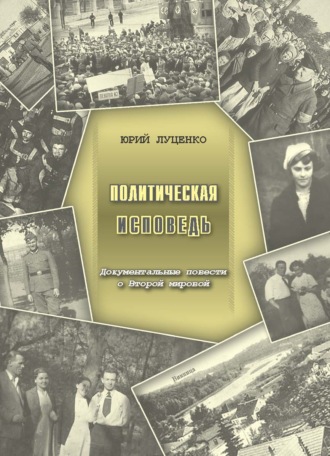
Полная версия
Политическая исповедь. Документальные повести о Второй мировой войне

Юрий Луценко
Политическая исповедь. Документальные повести о Второй мировой
Коротко об авторе

Юрий Филиппович Луценко родился 1 апреля 1924 года в селе Комаровцы Барского района Винницкой области на Украине. Отец Луценко Филипп Маркович – из зажиточных крестьян, школьный учитель. Мать – Дащенко Дарья Тихоновна – из дворян в третьем поколении.
Закончил школу в Киеве в 1941 году, получив аттестат за месяц до начала войны.
В комсомольском батальоне полтора месяца гасил пожары в прифронтовой зоне под Киевом. Во время оккупации участвовал в движении Сопротивления, относясь к той его части, которая, работая на победу над внешним врагом, не желала восстановления на своей земле коммунизма. Встреча с эмиссарами НТС помогла Ю. Ф. Луценко окончательно сформировать свои взгляды и определила направление дальнейшего пути. Возникла идея новой организации – «Третьей силы», нашедшей поддержку и понимание в среде актива сопротивления и у партизан.
Воспользовавшись непониманием немцами целей «Третьей силы», удалось с их помощью сформировать группу для переброски – под видом диверсантов – в советский тыл. 12 декабря 1944 года переброска была осуществлена, однако группу задержали партизаны, искавшие в том районе отряды немецких парашютистов. Уже через несколько дней задержанных отправили в воронежскую тюрьму.
Следствие по группе вел следственный отдел Смерш. В начале 1946 года объявили решение Особого совещания: двадцать лет ИТР.
В заключении Ю. Ф. Луценко провел больше одиннадцати лет. Освободили его по амнистии в феврале 1956 года. На постоянное место жительства поселился в тайге, к северу от Томска. Возможность уехать оттуда в Рязанскую область представилась только в 1963 году.
В Рязанской области работал главным бухгалтером в крупных строительных управлениях. Вышел на пенсию в 1998 году.
Женился после своего освобождения из лагеря в феврале 1956 года. Сейчас в семье Луценко трое детей, четыре взрослых внука, одна правнучка. Все они живут в Рязани.
Нет у меня Родины!
(Вместо предисловия)
А купцы приезжают в Познань,Покупают меха и мыло…Подождите, пока не поздно,Не забудьте, как это было!Как нас черным огнем косилоВ той последней слепой атаке…Александр ГаличСидя в гостиной под висевшим на стене черным крестом, Маслов смотрел с любопытством и без злобы на стоящего перед ним молоденького солдата в немецкой форме с нашивкой «РОА» – «Русская освободительная армия» – на рукаве. Солдат был разведчиком из армии Власова. Был послан в разведку и взят в плен в расположении дивизии Маслова. Позже стало известно, что в Праге и вокруг Праги части армии Власова повернули оружие против немцев и старались выйти на связь с частями Конева. Но тогда Маслов этого не знал.
На удивление всем, пленный держался с завидным спокойствием. Когда его ввели в комнату, где находился Маслов, он лишь с изумлением посмотрел на висевший на стене крест. Затем повернул голову к окну и уже не мог оторвать от него взгляда. Казалось, что он зачарован солнцем, освещающим веселыми лучами вишневые деревья во дворе и часть дубового стола, за которым сидел Маслов. До сих пор у Маслова не было случая увидеть представителя армии генерала-предателя, о которой говорили на всех фронтах, но о существовании которой до самого конца войны не знало гражданское население страны.
Война шла к концу, оставались считанные дни. Наступление на Прагу с целью взять город раньше американцев было последним актом страшной авантюры, в результате которой, о чем мало кто догадывался, должно было измениться лицо Европы, а быть может, и всего мира. Маслов был в отличном настроении и потому без злобы, даже без враждебности в голосе спросил:
– Как ты мог предать родину?
Солдат с усилием оторвал взгляд от окна, за которым была такая невероятно мирная весна, и повернулся к генералу:
– Простите, генерал. Что вы сказали?
– Как так вышло, что ты предал родину? – повторил Маслов уже с легким раздражением.
– Родину… А… Ладно, если ты так хочешь, то я тебе объясню.
На другом конце стола адъютант вздрогнул от изумления. Как эта гнида, этот предатель осмеливается тыкать генералу?! Бессознательно он сделал движение, чтобы вытащить пистолет из кобуры, но Маслов жестом его успокоил. Он все понял. Солдат прекрасно отдавал себе отчет, что эти минуты были последними в его жизни. И он хотел перед смертью сказать нечто для него важное. Он должен был умереть, и генерал был единственным возможным собеседником.
– Я тебе объясню. Мою родину, говоришь? Нет ее больше, моей родины. Моей родиной было большое и красивое село на Кубани – это на юге, слышал, наверное? Жили неплохо, не жаловались. Правда, во время Гражданской отец дрался за Советы, чтобы получить землю. Он ее получил. Только вот в тридцатом у нас ее всю забрали, понимаешь? Оказалось, раз мы не подыхали с голоду, то – кулаки. И у нас все, все забрали. У кулаков, значит. Только, ты станешь смеяться, потом они вернулись и у всех все забрали. Понимаешь, все крестьяне оказались кулаками! Ловко проделано! Кое-кто хотел сопротивляться, и их быстро отправили в Сибирь. Мой отец ничего не сделал, промолчал. Только на следующий год случилась засуха, а еще через год оказалось, что нам нечем сеять. Нечем, понимаешь? Мы начали помирать с голоду. И захотели уйти из села. Куда там! Они окружили село войсками и стреляли в каждого, кто пытался бежать. Тогда мужчины попросили, чтобы отпустили хотя бы женщин и детей. Еще чего! Одни померли с голоду, других срезали пулеметы. Те хоть не мучились… Мне тогда было семь лет. Мать меня спрятала в сухом колодце. Когда все померли, они сожгли село: дома и трупы. Все сожгли. Соблюдали гигиену, чтобы эпидемий не было, понимаешь? Когда все кончилось, я сумел убежать, но меня быстро поймали и отправили в детдом, так они называли детскую тюрьму. И меня называли «кулацкое семя». Перевоспитывали. Да ладно, я уже достаточно сказал. Это я хотел дать тебе понять, что мою родину, сколько ее ни ищи, никогда уже не найдешь.
В тайном ужасе от того, что в охватывающей его сердце теплоте он распознал начало братского чувства к стоящему перед ним солдату, Маслов приказал его немедленно расстрелять.
Из книги Димитрия Сеземанна «В Москве всё спокойно»Политическая исповедь
О том, чего нет в архиве организации
Исповедь старого «союзника» на фоне белых пятен в истории ДвиженияАмосов сообщил, что в архиве Организации обнаружили мое имя с порядковым номером 37 и пометкой «Погиб… место захоронения неизвестно».
Должно быть, дата моей смерти обозначена – декабрь 1944 года. Ведь именно тогда нашему радисту Аркадию Герасимóвичу в радиограмме Данилову все же удалось под контролем чекистов, используя секретный код, сообщить о том, что наша группа больше не существует.
Это был третий, запасной вариант именно для сообщения о том, что все мы погибли.
А мне все же удалось выжить. Одному из троих обреченных.
Аркадий погиб летом 1946-го.
Осенью того же года – Игорь Белоусов.
В 1991 году сама по себе, как перезревший нарыв, лопнула коммунистическая система правления Российским государством.
В стране, наряду с другими свободами, официально провозглашено самое главное из всех завоеваний демократии – свобода слова.
И хотя до полной победы истинной демократии нам еще очень далеко, стало вдруг возможным не только вспомнить, не таясь даже от самых близких, но и громко заговорить о «белых пятнах» моего «темного» прошлого, мягко говоря, не совсем адекватного по отношению к коммунистическому строю в стране.
Целая среднестатистическая жизнь человека – шестьдесят лет прошло с того времени, когда я при нашем прощании в последний раз обнял товарища по своей Организации. И отдал ему на хранение последние свои ценности: настоящие личные документы, дорогие письма и фотографии людей, для меня самых родных и близких…
И с тех пор – с одна тысяча девятьсот сорок четвертого – все последующие свои годы я просуществовал совсем в другом срезе жизни, в иной реальности, ином мире.
О событиях из моего прошлого, о моей юности, о нашей Организации напоминали мне иногда только чины из контрразведки, НКВД и КГБ.
Только в 1991 году, когда на Конгресс соотечественников, проведенный в Москве по инициативе Ельцина, собрались представители эмиграции, я впервые встретился с родственниками из «дальнего» Зарубежья.
И уже от них узнал, что Организация, наш Союз все еще жив, активен в своих действиях и находится в боевой форме.
До этого все годы, которые я провел в условиях мира «победившего социализма» на правах изгоя, человека с «очень темным прошлым», мне приходилось при каждом моем поступке, каждом высказанном слове оглядываться и напоминать себе о возможных последствиях. И о том еще, что я по природе своей не такой, как все, и что мои действия кем-то всесильным будут оценены совсем в иной валюте, чем у других.
За три года участия в подпольной организации, ведущей активную борьбу с властью коммунистов в СССР во времена немецкой оккупации, мне пришлось расплачиваться долго и по очень высокой цене.
«Приговором Особого совещания» я был обречен на двадцать лет «исправительно-трудовых работ» в системе ГУЛага. А это значило двадцать лет борьбы за то, чтобы просто выжить!
Кроме этого, в моем «Личном деле», для усложнения условий выживания, была еще и пометка: «Особо опасный преступник». Судили меня заочно. Я не видел своих судей, судьи не видели меня. Они не выслушали моих слов в собственную защиту и решали мою судьбу, скорее всего, не выходя из своих кабинетов. Я тогда расценил это как их – даже работающих в рядах этих всесильных «органов»! – опасение встречи со мной, боязнь услышать не свою – социалистическую, а совсем другую правду.
После смерти Сталина и расстрела Берии бывшие их соратники поняли, что зарвались. Они сами ужаснулись тому, что сотворили со страной и ее народом. После ХХ съезда КПСС наступило время некоторого отрезвления в руководстве страны, названное периодом «политического потепления».
Мой срок в тюрьмах и лагерях, в штрафных, «особых», «специальных» и «особорежимных», был милостиво ограничен одиннадцатью с половиной годами, уже отбытыми мною.
Эти годы в основном ушли на обживание дальнего Севера, подчас на грани выживаемости, а иногда и за этой гранью.
Мне все же несказанно повезло в этой жизни – меня Провиденье для чего-то сохранило в живых. Жребий выпал только одному из троих в нашей команде, осужденных на срок выше десяти лет. Одному из многих десятков товарищей по Организации.
Погибли близкие друзья и испытанные мои соратники Игорь Белоусов и Аркадий Герасимович. Рано ушли из жизни очень многие, безусловно – и более достойные.
Остаток моего срока заменен бессрочной ссылкой в отдаленных от центра страны городах и поселках. Я сам из всех прочих мест обитания выбрал Томскую тайгу, поселок Красный Яр Ергайского леспромхоза. Так распорядился потому, что туда были сосланы и мои родители.
Расплачиваться за мои деяния пришлось загубленной молодостью моей младшей сестре Нине. После восьмилетнего лагерного стажа в Караганде, Челябинске и Мордовии дополнительно еще потом и десятью годами ссылки в той же тайге, к северу от Томска. В том же таежном поселке.
Я никогда не жаловался на судьбу. Ее для себя определил я сам в ранней юности. Только иногда, уже в процессе жизни на ум приходила мысль: все же физическое уничтожение – тогда, в 1946 году – как карательная мера по «Приговору» была бы для меня более желанным исходом, чем весь этот конгломерат физических, моральных и нравственных испытаний.
И даже потом, после полного расчета с Государством по их «Приговорам» и «Решениям», мне предстояла долгая пора «негласного надзора» – несколько десятилетий особого, тайного и открытого, внимания к моей особе со стороны партийных и «компетентных органов».
У меня выработалось постоянное, почти физическое ощущение чужого тяжелого дыхания за спиной, я жил под плотным «колпаком» всесильного КГБ, в тесном кольце «сексотов», «стукачей» и провокаторов. Казалось иногда, что под их контролем находится каждая мысль… Они мне явно не доверяли, до самого последнего дня их господства. Они были уверены, что я обязательно должен еще «проколоться», проявить себя и попасть в хитроумные, а иногда и очень примитивные ловушки и силки, расставленные вокруг меня. Что будут еще попытки с моей стороны выйти на связь со своей Организацией.
Постепенно они сами же и приучили меня жить двойной жизнью, всегда, даже в самых невинных жизненных ситуациях, пребывать в состоянии готовности ко всему. Я знал очень хорошо, что когда-нибудь им может надоесть эта игра, и они пойдут на самую простую провокацию…
Даже после развала СССР я ничего не знал о судьбе товарищей по Организации, моих коллег по борьбе. Уже в 2003 году в американском журнале «Carnegie reporter» появилась статья о России, прожившей десять лет с начала политических перемен. Есть в ней глава и обо мне. Даже с фотографией.
Это моя внучатая племянница таким образом попыталась помочь мне разыскать в огромном капиталистическом мире друзей из прошлого. Но тщетно. Заинтересовались темой статьи и попросили у меня интервью лишь несколько школьников из Чикаго…
А в 1996 году я, переступив через душевную боль, написал несколько повестей о своем прошлом. Это были мои первые: «Тоби Бобо», «Большой сабантуй» и «Помни о Виннице» и переслал все это с письмом Председателю Совета НТС – как свою политическую исповедь. Ответил мне – очень сухо – управляющий делами Организации Жуков.
А еще в передаче «В мире книг» прозвучал косвенный привет по радио от журналистки Татьяны Ивановой.
И я понял, что письмо мое прочитано почему-то с недоверием. К тому же искали в архивах Организации мое имя – и не нашли. А мемуары восприняли как попытку литературной саморекламы.
Прошло уже слишком много времени. Имен, названных мною, никто не помнил и не знал, факты вызывали сомнение… А еще, как я узнал потом, в то время им просто было не до меня – Организация переживала очередной период «Великого раскола».
И только спустя несколько лет заочное, совсем уж случайное знакомство с Юрием Константиновичем Амосовым открыло для меня возможность окунуться в мир информации о людях и о самой Организации. Постепенно с помощью Амосова удалось получить ответы на множество вопросов по теме, которая всю жизнь меня очень интересовала.
В этом знакомстве главным оказалось то, что мы оба принадлежим практически одному поколению. И стало понятно, почему все попытки разыскать хоть кого-нибудь из моих друзей, оказались тщетными. Это было попросту невозможно: все они дружно ушли в мир иной.
С большой печалью узнал я и о том, что у современных представителей Организации очень скромные познания о своем прошлом, о своей Истории. Отрывочные сведения остались в книге «Мысль и дело» (2000 год) и в книге Л. Рара – В. Оболенского «Ранние годы».
Но как этого мало!
Есть, конечно, достаточно полная информация о деятельности Центрального Совета. Она в наличии потому, что сохранены Протоколы и основные Решения Совета. И еще: в свое время были изданы мемуарные труды руководителей Совета разного времени – В. Поремского и Е. Романова.
Однако очень многое из того, что происходило «на периферии», во всех уголках России, Белоруссии, Украины, что стало результатом встреч функционеров НТС с «советским» народом во времена немецкой оккупации, обозначено лишь пунктиром, а многое вообще осталось вне памяти Организации. Безвозвратно утрачены целые пласты истории Движения.
Это случилось также из-за того, что приходилось соблюдать постоянную секретность, строгого следовать правилам конспирации. Все прекрасно осознавали жестокую необходимость: знать как можно меньше о других товарищах.
Была и еще одна, очень существенная, причина, говорить о которой, как мне кажется, в прежние времена было «не принято». Эта причина – два «Великих раскола», в разное время произошедших в рядах Организации. И, безусловно, нанесших и ей, и всему Движению значительный и непоправимый урон.
Второй раскол, вызванный в основном передислокацией НТС в Россию и связанными с этим изменениями как в структуре самой Организации, так и в ее правовой основе, по моему мнению, объясним, логичен и даже, может быть, необходим.
Однако разделение членов Организации на коалиции и группы в 1945 году, в самый тяжелый период деятельности, в первые годы после завершения войны, было, с моей точки зрения, не только немотивированным, но необдуманным, вредным и болезненным для всего Движения. Из-за этого раскола часть очень активных, деятельных функционеров – ценных, полезных работников самых разных звеньев и уровней – оказалась за чертой Организации. Они ушли, унося с собой и часть общей души Движения, и целые главы общей истории.
Я не могу осуждать никого из тех, кто принимали решения о «разводе» в единой большой Семье. Не осуждаю не только потому, что при всем желании не могу сейчас, спустя много десятилетий, разобраться, кто же был прав больше, а кто меньше. (Истину о том, что в любом споре виновны обе стороны, я усвоил для себя с детских лет. Разница бывает только в мере вины.)
Я не могу судить этих людей еще и потому, что был младшим среди них. Я был тогда учеником. На ходу, в действии учился у них жить и бороться, учился законам конспирации, решительности поступка, мудрости в любых жизненных ситуациях… А самое главное, я учился у них принципам бережного, любовного отношения друг к другу. Это называлось тогда применением системы солидаризма в жизни, на практике.
И как ученик я убежден в том, что вообще не должен осуждать поступки своих любимых учителей, так же как сын не имеет права осуждать своих родителей.
Но прекрасно понимаю моральное состояние рядовых членов Организации – многих сочувствующих, а особенно колеблющихся – в то страшное время, когда уходили одни (те, с кого брали пример) и насильственно отторгались другие. Это состояние можно сравнить только с чувствами детей при разводе любимых родителей.
Невозможно осуждать и тех, кто остался в Организации. На их долю тогда естественным образом выпала обязанность «латать дыры», образованные в теле Организации.
С этой задачей они справились успешно.
Кроме того, им удалось еще очень многое.
Им удалось сохраниться вместе в тяжелейших условиях с Уставом, с составом членов и сочувствующих, с ее юридической сущностью, с какими-то активами и пассивами…
Чекисты в те годы радовались расколу, но не перестали считать НТС своим «главным врагом»… А это вполне можно расценивать как основной показатель дееспособности политической организации.
С огромной болью я отметил и то, что блестящая плеяда романтиков, которая покинула тогда Организацию, не согласившись с какими-то пунктами в ее стратегии и тактике, ушла вскоре и из жизни. Оставили этот мир один за другим все они, будто из них был выпущен живительный дух. И своей смертью они показали, что без привычной среды, без политического устремления жизнь для них не представляла уже никакой ценности.
А для меня так и осталась неразрешенной загадка: как же могли они все, оказавшиеся внезапно по двум сторонам образовавшейся между ними пропасти, они, мудрые и справедливые, опытные и закаленные в борьбе, как же могли они не рассмотреть, что эта «пропасть» не окончательна? Что она не так важна, не так страшна по сравнению со всем тем, через что им уже пришлось пройти. И по сравнению с тем, что ожидало их потом – при отказе от борьбы и в наступившем одиночестве…
Ведь ее, эту пропасть, можно было постепенно преодолеть, протягивая руки навстречу, делая уступки друг другу.
Они выбрали – я убежден в этом – явно не лучший вариант решения возникшей общей проблемы.
До 22 июня 1941-го, до дня, когда к нам пришла война, мне только-только исполнилось семнадцать лет. Я в том году окончил среднюю школу в Киеве.
Как распорядиться своей судьбой – куда пойти учиться дальше, – я еще не знал. И хотя я был довольно активным комсомольцем (меня даже избирали вторым секретарем комсомольской организации школы) и учился хорошо, все же проблем с поступлением в какое-либо военное училище (что было тогда очень модно в среде моих сверстников) или в престижный технический вуз у меня было предостаточно.
Во-первых, я вынужден был потерять год, так как принимали в такие учебные заведения только после восемнадцати. Во-вторых – и я это уже прекрасно понимал, – дорогу мне могла перекрыть так называемая мандатная комиссия в связи с фактами моей не совсем благополучной биографии. Для НКВД не было секретом ни то, что моя мама из дворян, ни то, что у нее есть родственники за границей, ни то, что родной отец у меня – из раскулаченных крестьян, а отчим дважды привлекался к уголовной ответственности по 58 статье с пунктом 7 («хозяйственные нарушения», тогда была мода называть их звучно «хозяйственная контрреволюция»).
Отчиму пока удавалось выкручиваться. Он доказывал, что, будучи пролетарского, даже батрацкого происхождения, вполне лоялен в своем отношении к Советской власти. Нашлись свидетели, которые не побоялись подтвердить, что он геройски воевал в Гражданскую, в знаменитом Богунском полку, дивизии еще более знаменитого (самого!) Щорса. И его отпускали на свободу.
Хотя доносы «доброжелателей» в его деле все же оставались в сейфах на всякий случай, до следующего раза, и множились темные пятна в его биографии. А сам он просто не вписывался в их систему своей порядочностью и еще тем, что не желал вступать в их партию.
И неизвестно, чем бы это закончилось, если бы война не перевернула вверх дном и жизнь всего Государства, и судьбу каждого из нас. Прежние планы, надежды, расчеты оказались наивными детскими мечтами.
Киев был занят немцами через три месяца после начала войны.
За это время в моей жизни было уже очень многое. И поход в составе батальона «молокососов», как нас тогда назвали в военкомате, пешим строем на Восток, в центральную часть России. И первая встреча с военным беспределом: по дороге командование батальона сбежало от нас, прихватив казну и обоз с продуктами, нас же оставив в роли дезертиров-заложников. Потом было еще полтора месяца участия в обороне Киева в составе противопожарного батальона по путевке Райкома комсомола… Мы гасили пожары по ночам под минометным обстрелом, днем же прятались от немецких мин в бомбоубежище.
Всякие остатки уважения к советскому Правительству как у ребят в моем окружении, так и у меня постепенно растаяли сами собой при встрече со многими мелкими и крупными преступлениями представителей той, прежней власти. Прикрываясь военной необходимостью и никого не стесняясь, они творили, что только хотели.
Взамен мы испытывали чувство презрения, перерастающее в ненависть.
В городе начался самый настоящий голод. А еще – шла партизанская война. Днем на глазах у всех партизаны взорвали одно из самых представительных зданий на Крещатике, где размещались в советское время какие-то административные службы. Под грудой конструкций и строительного мусора погибло с десяток немцев, а еще – многие сотни киевлян, которые по приказу новой власти под угрозой расстрела принесли сдавать охотничьи ружья и радиоприемники.
Каждую ночь взрывалось несколько жилых зданий в самом центре – на Крещатике и прилегающих к нему улицах. Горело все, что могло гореть. Город был наполнен запахом гари. Так подпольщики выполняли приказ Верховного Главнокомандующего о том, чтобы «под ногами врагов горела земля».
Всем вдруг стало понятно, что центр города заминирован еще раньше, заблаговременно. Многие вспоминали, что видели, как люди в военной форме носили в подвалы домов какие-то тяжелые ящики. Тогда этому не придавали значения – думали, что кто-то менял жилплощадь, а военные помогали перевозить вещи. Военным тогда верили.
Однако оказалось, что военные были разные, и не все жители города могли различить их по цвету петлиц.
Мы были обречены.
Нам всем заранее была приготовлена роль заложников. Вождь украинских коммунистов Никита Хрущев и командующий военным округом Семен Буденный всего за несколько дней до своего бегства убеждали нас по радио, что Киев не будет сдан оккупантам. Хотя они тогда уже знали, что немцы скоро окажутся в городе, и центр его неминуемо будет разрушен. Жителям предстояло встретить смерть в своих домах.
Водопроводную систему взорвали при отступлении. Воды в городе не было. Пожары после взрывов распространялись все шире, охватывая все новые и новые улицы и переулки.
Немцы попытались приостановить разрушение города своими – не менее дикими – методами. На улицах, во дворах они собрали мужчин, которые помоложе и посильнее, увели на окраину города и расстреляли как заложников. Сто человек. Потом триста. Потом пятьсот. Объявляли о расстрелах и о причинах своих действий в листовках, на следующий день после расправы…