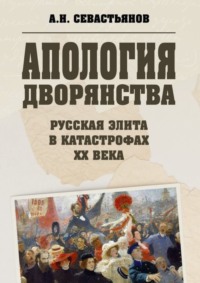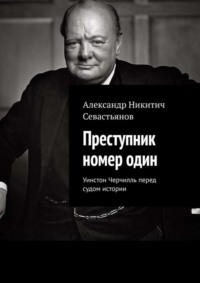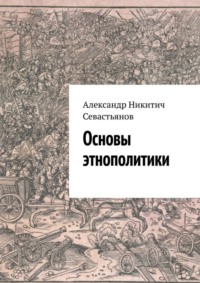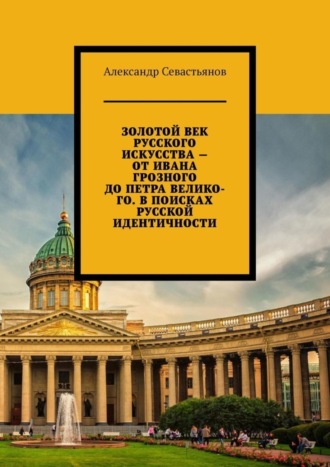
Полная версия
Золотой век русского искусства – от Ивана Грозного до Петра Великого. В поисках русской идентичности
Второе заблуждение в ее отношении состоит в том, что Царь-пушку долгое время считали по своему назначению – «дробовиком», то есть орудием, предназначенным для стрельбы картечью, «дробом». Поскольку ее внешне ровный, одинакового диаметра по всей длине цилиндрический ствол не предполагал другого использования. Так он именуется даже в документе 1745 года, времен Елизаветы Петровны; и в дальнейшем пушку важно называли в источниках «Дробовик Российский».
Однако, заглянув внимательно внутрь, эксперты обнаружили, что пушка состоит из двух камер: дульной (диаметр 92 см) и казенной (44 см), с плоским дном. Причем толщина стенок ствола в дульной части составляет около 15 сантиметров, а толщина стенок пороховой камеры – до 38 сантиметров, и толщина тарели (задней стенки) – 42 сантиметра213. Это значит, что в пушку, в ее слегка конусообразный канал, помещался снаряд. А это, в свою очередь, значит, что перед нами никакой не дробовик, а самая настоящая бомбарда, которая должна была стрелять ядрами214, хотя могла стрелять и дробом. Кроме всего, Царь-пушка имеет длину четыре калибра, а это стандарт именно бомбарды. Расчеты показали, что запас прочности у этого орудия был достаточен, чтобы выполнять такое предназначение215.
Что это значит для нашего исследования? Прежде всего то, что сравнивать Царь-пушку следует именно с известными бомбардами и мортирами Востока и Запада, если мы хотим обнаружить нечто типическое.
Пушка Чохова – настоящая красавица, бесспорно уникальная. Но на что она, все же, похожа? На европейские бомбарды? Нет. Ничего общего ни с гентской «Бешеной Гретой» (она же «Большой красный дьявол»), ни с брауншвейгской «Ленивой Матильдой», известной сегодня по гравюре и описанию, ни с эдинбургской «Мег из Монса» в ней усмотреть невозможно. Прежде всего это относится к внешнему виду: в западных бомбардах бросается в глаза их двусоставность, ибо каждая из двух камер имеет свой наружный диаметр, а Царь-пушка – напротив, только внутренний, внешний же – един. Западные бомбарды строго функциональны, внешне просты и незамысловаты, лишены интересного декора, в отличие от русского орудия.
Кроме того, наша главная бомбарда гораздо больше западных, ее максимальные размеры даже официально подтверждены Всемирной книгой рекордов Гиннесса. Царь-пушка весит 2400 пудов или 38,4 тонны, в то время как «Бешеная Грета» весит всего 16,4 тонны, ее калибр почти вполовину меньше калибра Царь-пушки; «Ленивая Матильда» весила 8,16 тонны216; а «Монс Мег» весит и вовсе лишь 6,6 тонны.
Больше того: Царь-пушка совершенно затмила параметрами и отечественные, но сделанные на западный образец «Кашпирову пушку» и «Павлина» (как Дебосиса, так и Петрова). А уж про экстерьер и говорить нечего. Таких красивых бомбард в мире больше нет, она еще и произведение искусства, вне сравнений. И даже благородная патина – окись меди нежнозеленого цвета с голубым оттенком бадахшанской бирюзы – ее необычайно красит, свидетельствуя о высочайшем качестве бронзы.
С чем же мы сравним ее? Приходится признать, что ближайшими аналогами являются турецкие бомбарды XV века, как стоящие во дворе стамбульского Военно-исторического музея, так и хранящаяся в Англии внушительная и красивая «Дарданелльская пушка» (она же «пушка Магомета»), сделанная Муниром Али в 1464 году по образцу знаменитой Базилики, разрушившей стены Константинополя. С ними нашу великолепную бомбарду роднят совершенные пропорции и общий ровно цилиндрический, а не ступенчатый вид, а также внутреннее устройство. Мою точку зрения на этот вопрос разделяет историк-специалист Александр Широкорад, который тридцать лет исследует отечественную артиллерию и недавно опубликовал в авторитетном журнале «Национальная оборона» статью, посвященную именно нашему предмету217.
Кстати, красивая (но уступающая нашей) Дарданелльская пушка состоит из двух частей, свинчивающихся между собой, однако в собранном виде это все равно внешне единый цилиндр, как и Царь-пушка, а не двусоставное ступенчатое орудие из цилиндров разного диаметра, как западные бомбарды. Ее принципиальное сходство с Царь-пушкой подчеркнул и Широкорад: «Интересно, что „пушка Магомета“ („Дарданелльская“) внешне и по устройству канала очень схожа с Царь-пушкой»218. Но наша пушка удобнее и проще в обращении.
Думается, что Андрей Чохов, замышляя свой грандиозный труд, отталкивался от лучших известных ему образцов бомбард в мире, которые он честолюбиво стремился превзойти. А ими были отнюдь не западные и не сделанные по их принципу отечественные бомбарды, а конечно же – легендарные турецкие орудия XV века, разрушившие священный и знаменательный для всякого православного человека Царьград. И тем доказавшие свою сверхдейственность. Каким образом Чохов раздобыл их изображения или чертежи – можно гадать, но факт налицо: он сделал именно супербомбарду, напоминающую турецкие аналоги, но превосходящую их по всем статьям219. В том числе и в эстетическом плане; она красивее, совершеннее турецких бомбард, ее декор богаче и разнообразнее.
Остается только заметить, что Царь-пушка с самого начала воспринималась, в первую очередь, именно как произведение искусства, как украшение столицы, а совсем не только в утилитарном милитаристском смысле, хотя ее военных достоинств это не умаляло и не умаляет220.
Таким образом, в русском пушечном производстве восточное влияние хотя и не доминировало, но все же проявлялось. Образы Турции, Персии присутствовали в сознании русских мастеров-литейщиков, художников своего дела.
* * *
Стрелковое оружие. Не будем забывать, что смертоносное огнестрельное оружие – это не только пушки. И если последние не импортировались на Русь с Востока, то это ограничение не касалось легкого вооружения – ружей и пр. В этом отношении нам судить легко, ибо, как указано в комментариях к описанию шедевров Оружейной палаты: «Прекрасные восточные стволы из дамасской стали русские оружейники часто использовали при изготовлении своих ружей»221. Так же, как использовали они восточные булатные клинки, в том числе пуская их в перековку, или булатные шлемы и зерцальные доспехи, декорируя их по-своему, и т. д.
В качестве примера можно привести пищаль с длинным массивным турецким стволом (ОПМК №75), которая «относится к лучшим образцам русского парадного охотничьего оружия первой половины XVII в., изготовленного в Оружейной палате»222.
Такая постановка вопроса несколько странна. Если в холодном оружии самое главное – это клинок, то в огнестрельном, несомненно, – ствол. Именно они придают основной смысл каждый своему виду вооружений. Можно ли относить к «лучшим образцам» оружия одной национальной школы предметы, главный элемент которых изготовлен в традициях другой национальной школы, руками мастеров другой страны, другой национальности? Однако отечественное искусствоведение, похоже, расценивает дело именно так.
Причем, как ясно из сказанного выше, происходило такое освоение русскими оружейниками восточных ружейных стволов в достаточно массовом масштабе. И – добавим – с достаточно давних пор. Об этом свидетельствует еще один экспонат – ружье оружничего Богдана Бельского (ОПМК №88). О нем сказано: «Редкий в собраниях России образец раннего турецкого огнестрельного оружия конца XVI в. Оно имеет фитильный замок восточного типа… Ствол ружья дамасской стали, в дульной части откован в виде змеиной головы с напаянными медью глазами. Подобный прием декорировки стволов часто встречается на турецком и русском длинноствольном оружии XVI—XVII столетий (ясно, что русские заимствовали прием у турок, а не наоборот. – А.С.). На казенной части ствола выбиты три пятиугольных клейма в которых повторяется восточная надпись „Делал Махмуд“»223.
На этом эпизоде, вполне ясно раскрывающем общую картину, можно остановить наш рассказ. Понятно, что с огнестрельным вооружением дело обстояло так же, как и с холодным оружием: влияние Востока вплоть до второй трети XVII века было определяющим.
* * *
Оборонительное оружие.
Татаро-монгольское нашествие внесло решительные коррективы не только в части смертоносных, но и оборонительных вооружений. С монгольским, вообще азиатским влиянием связан русский защитный костюм и доспех уже в XIII веке. Так, в 1252—1254 гг. войско Даниила Галицкого, пришедшее за Одер сражаться с немцами в Чехии и Германии, было одето в татарские доспехи: «Беша бо кони в личинах и в коярех кожаных и людье во ярыцех». Чем немцы были немало удивлены. Одним из видов восточного чешуйчатого доспеха были куяки, которые встречались в Московской Руси, хоть и нечасто224. С азиатским влиянием связывают и кольчатые доспехи – байданы, и кольчато-пластинчатые – бахтерцы, юшманы, колонтари. Хотя и русская кольчуга, будучи весьма совершенна, вполне сохраняла свои позиции до XVII века.
Но главное, самый распространенный в XVI веке защитный костюм небогатого воина – тегиляй – представлял собой как татарский, так теперь уже и русский доспех. В классическом труде А. В. Висковатова он описан так: «Платье с короткими рукавами и с высоким стоячим воротником, употреблявшееся такими ратниками, которые, по бедности, не были в состоянии явиться на службу в доспехе. Делался тегиляй из сукна, также из других шерстяных или бумажных материй, толсто подбивался хлопчатою бумагою или пенькою, иногда с прибавлением панцирных или кольчужных обрывков, и был насквозь простеган. В таком виде тегиляй был почти столь же надежною защитою, как и всякий доспех. Надевался он в рукава, как кафтан; в длину был ниже колен, а застегивался пуговицами на груди»225. Именно в тегиляях красуются конные русские ратники, изображенные на карте-плане Москвы (1556) и на немецких гравюрах, в частности из книги Герберштейна226, известных нам еще по школьным учебникам истории. В толстой набивке тегиляев нередко застревали стрелы, они неплохо защищали и от сабельных ударов. Впервые тегиляй упоминается в переписке Ивана III в 1489 году, но наверняка использовался задолго до того. По мнению видного бурятского ориенталиста Доржи Банзарова, слово «тегиляй» происходит от монгольского «тегель», означающего «шитье, стежка»227.
Вот в таком, татарском по происхождению, наряде щеголяло, по большей части, конное поместное войско, состоявшее из небогатых помещиков и дворян (ядро русских вооруженных сил), ведь власть оставляла вооружение на усмотрение каждого воина. Общая численность дворянского ополчения могла достигать в конце XVI века 50.000 человек, в дальнейшем численность росла. И общий внешний вид этой конницы определялся изготовленными в домашних условиях тегиляями «а-ля тартар». А что до широких народных масс, принимавших участие в походах и сражениях XVI—XVII вв., они состояли из казаков (вольных и служилых, городских и слободских, устроенных на манер стрельцов), а также простых селян, горожан и монастырских людей, занятых на военно-инженерных работах, транспортировке артиллерийских орудий, боеприпасов, обслуживании орудий и помощи людям пушкарского чина, в охране городов. Эти люди одевались кто во что горазд и имели хоть какое-то оружие одно на пять-шесть человек, хотя правительство и добивалось, чтобы каждый горожанин и селянин имел хотя бы рогатину, пищаль или бердыш, дабы в случае надобности участвовать в народном ополчении. Но средств при этом не давало (разве что казакам, в виде боеприпасов), а своих у людей не было.
Любопытно, что в Лицевом летописном своде имеется посвященная событиям 1552 года миниатюра «Бысть сеча в граде Казани», на которой русские и татары, с одинаковыми саблями в руках, вообще неотличимы по вооружению и внешнему виду.
Доспехи. Зато у русских богатых и знатных людей, у военачальников был свой излюбленный наряд – зерцальный доспех, хотя и он порой надевался поверх тегиляя. В Оружейной палате хранится около пятидесяти (!) комплектов таких доспехов, что свидетельствует об их большой популярности.
Что этот доспех собой представлял и откуда появился?
Появление на Руси ранних зерцал, представлявших собой круглую металлическую бляху, одевавшуюся поверх кольчужного, как правило, доспеха, относят к концу XIII. У монголов этот тип доспеха также известен в XIII—XIV вв. Таким образом, и тут влияние монголо-татарских пришельцев очевидно. Хотя надо сказать, что данный тип защитного вооружения вообще широко распространен на Востоке. В персидском варианте он называется «чахар-айина» («четыре зерцала»); в китайском «пиньинь» («зерцало, защищающее сердце»). «Чаще всего употреблялись зерцала из двух или четырех пластин, но иногда их число могло доходить до четырех десятков и более»228.
Различают два вида: полный зерцальный доспех и зерцала личные. Считается, что полные зерцальные доспехи в русской традиции имеют более позднее османское происхождение229, тогда как зерцала личные давно пришли из Средней Азии и Персии230. Эти последние в персидском варианте были лишь усиливающими кольчатый доспех элементами и всегда состояли из четырех больших пластин: нагрудной, наспинной и двух боковых231. Пластины могли иметь разные формы: прямоугольники, восьмиугольники и круги, а боковые пластины могли иметь подмышечную выемку.
О том, как выглядели в 1588 году в подобных доспехах представители верхушки русского общества, рассказал наблюдательный дипломат и поэт Джильс Флетчер: «У главных предводителей и знатных лиц лошади покрыты богатою сбруею, седла из золотой парчи, узды также роскошно убраны золотом, с шелковою бахромою, и унизаны жемчугом и драгоценными камнями; сами они в щегольской броне, называемой булатной, из прекрасной блестящей стали, сверх которой еще надевают одежду из золотой парчи с горностаевой опушкой»232. Читая эти строки, вспоминаешь, конечно же, не собрания Тауэра, Дрездена или Музея армии в Париже, а исключительно коллекции Военно-исторического музея в Стамбуле и не менее того – султанского дворца Топкапы.
Зерцальные доспехи были любимы русскими князьями и царями. К сожалению, мы не можем заглянуть воочию в глубь веков, поскольку в пожаре 1547 года сгорело все содержимое Оружейной палаты на тот момент: в том числе оружие великих князей Ивана Ивановича, Дмитрия Донского, Ивана III Васильевича и их замечательных современников. Колоссальный ущерб Оружейной палате нанесли польские интервенты и другие фигуранты Смутного времени, разграбившие ее в те годы так, что потом пришлось по крупицам собирать из разных мест былое наследие (многого найти не удалось). Но все же мы можем полюбоваться на самые совершенные по техническому исполнению и красоте образцы вооружений и просветиться на их счет, читая высокопрофессиональные описания сотрудников Музеев Кремля.
Помимо зерцальных, русские носили и другие разнообразные пластинчатые доспехи. Об их происхождении говорят уже и сами восточные названия типов защитных приспособлений: чичак (шишак), бутурлык, бахтерец, байдана, колонтарь, юшман и т. д. Ничего удивительного: «В XVI—XVII вв. бахтерцы и конструктивно родственные им доспехи были распространены на Востоке (Иране, Турции, Египте, Индии) и в некоторых европейских странах (Польше, Венгрии, России – понятно: именно эти страны теснее всего контактировали тогда с Востоком. – А.С.)»233.
Типологически восточные, пластинчатые доспехи, однако, нередко выполнялись русскими мастерами с большим искусством. Так, один из самых красивых зерцальных доспехов (ОПМК №20) был сделан для юного Михаила Федоровича в 1616 году русским мастером Дмитрием Коноваловым (ковка) и немцем Андреем Тирманом (травление и золочение). Великолепен бахтерец (ОПМК №18), выполненный Кононом Михайловым в 1620 году: каждая его пластиночка насечена золотом – красиво, необычно, стильно.
Алексей Михайлович по каким-то причинам не носил ни лучший шлем, ни лучший доспех своего отца. Не носил он и дареные ему не раз западные доспехи, хотя Никита Давыдов исполнил как-то раз занятную кирасу по западному образцу. Зато Тишайший царь любил и ценил турецкой работы крупнопластинчатый юшман (ОПМК №19), который брал с собой в походы 1654—1656 гг. Его пластины декорированы золотой таушировкой – там мы видим растительный орнамент и восточные надписи: «Милосердный Зиждитель», «Слава Тебе по всему миру».
Правда, в 1663 году Тишайший дождался собственного зерцального доспеха, изготовленного Никитой Давыдовым (ОПМК №21; это одна из последних выдающихся работ мастера). А в 1670 году по его заказу был исполнен особый великолепный зерцальный доспех, повторяющий работу Дмитрия Коновалова (в центре – двуглавый орел, по кругу – титулатура); к сорока годам царь наконец решил «сравняться» с отцом, чьим оборонительным оружием не пользовался из принципа. Однако этому доспеху – вряд ли случайно – в витрине Оружейной палаты придан наголовник в виде популярного еще у татар шлема «мисюрка», и комплект сразу же производит впечатление Востока, как оно, собственно, и должно быть.
Кроме доспеха, тело русского воина защищали наручи, а иногда и поножи (бутурлыки). Любимые наручи Алексея Михайловича, которые он брал с собой в Смоленский и Рижский походы (ОПМК №28), были турецкой работы XVI века и поступили в казну в 1622 году поле смерти князя Ф. И. Мстиславского. Эти парные наручи «по всей длине отерты гранями и сплошь покрыты инкрустированным в булат тонким золотым растительным орнаментом, поверх которого укреплены фигурные (в виде бутонов тюльпанов и розеток) золотые пластины с драгоценными камнями в высоких гнездах»234.
Сегодня наручи персидской работы (и персидскую же саблю) можно увидеть в реконструированном дворце Алексея Михайловича в Коломенском – в «детской учительной палате»235.
В Оружейной палате хранятся и другие прекрасные наручи турецкой работы. Очевидно, их воздействие на воображение русских оружейников было настолько сильным, что в подражание им Никита Давыдов в первой половине XVII века выполнил свою пару, «видимо, по вполне конкретному образцу» (в коллекции есть «пара других наручей – именно турецких – с почти полностью аналогичным декоративным решением»236).
Шлемы, боевые шапки. Изложение темы происхождения и морфологии домонгольских русских шлемов основано здесь на фундаментальной работе А. Н. Кирпичникова, детально раскрывающей вопрос237.
Если отказаться от исчисления российской истории со времен Урарту, на чем в советское время настаивала официальная версия, то можно уверждать на основании данных археологии: с VIII-Х вв. и до второй половины XVI века основным типом шлемов, применяемых на Руси, были высокие сфероконические шеломы, увенчанные шпилем или втулкой для перьев или флажка-яловца (эта деталь, по мнению Кирпичникова, восходит к XI—XII вв.). Вначале склепанные из нескольких (от двух до четырех и более) пластин, затем и цельнокованые. Со времен по крайней мере Святослава Хороброго применялось золочение и серебрение шлемов, разнообразные прикрасы. По нижнему краю, как правило, крепились кольчужные бармицы.
«Все известные образцы („курганного периода“. — А.С.), судя по богатству отделки, принадлежали, по-видимому, феодальной знати. О шлемах рядовых дружинников ничего определенного сказать нельзя. Однако эта часть боевого доспеха имелась не только у предводителей, но и у дружины. Лев Диакон сообщает о „твердых шлемах“ русских, воевавших на Балканах», – пишет Кирпичников.
В дореволюционное время такие ученые, как Э. Ленц и В. В. Арендт, настаивали на восточном происхождении подобных шеломов, затем советские историки А. В. Арциховский, Б. А. Рыбаков и др. доказали существование на Руси собственного оружия и такого вида защитного доспеха, как шлем. Кирпичников своеобразно резюмирует результат дискуссий: «Генезис русских шлемов указывает на азиатский Восток… Речь может идти только о происхождении типа втульчатого сфероконического наголовья, господствовавшего на Среднем и Ближнем Востоке в течение всего средневековья. Следует отметить, что детали орнаментального убранства, боковые „умбоны“ и медно-золоченая техника древнерусских экземпляров пока не встречены на Востоке. Не исключено, что наиболее своеобразные нарядные экземпляры из Гнёздова и Черной могилы были сделаны местными мастерами, знакомыми с азиатскими моделями». Такой неопределенный, гадательный результат многолетних дискуссий оставляет, на мой взгляд, вопрос о происхождении русского шлема открытым и спорным. Но дает все основания говорить о взаимовлиянии восточной и собственно русской традиции.
Зато вот что бесспорно: «шлемы Северной Европы существенно отличались от гнёздовского образца (равно как и от других русских находок)». Более того, влияние тут шло в обратном направлении: «Путь распространения золоченых шлемов с Востока на Запад в общем не вызывает сомнений… Вероятным центром изготовления золоченых шлемов было Киевское государство, так как наиболее древние экземпляры найдены в богатейших княжеско-боярских курганах X в. Нельзя, конечно, утверждать, что все зарубежные шлемы сделаны в русских городах, однако, если говорить о генезисе таких памятников, то, очевидно, нельзя и отрицать того положения, что сам тип сфероконического золоченого наголовья, сложившийся под восточным влиянием, в X в. бытовал на Руси. Отсюда он мог проникнуть на Запад и вызвать там местные подражания».
Этот факт дает повод вновь предполагать, во-первых, что домонгольская Русь в ряде областей техники и искусства развивалась не догоняющими, а опережающими Западную Европу темпами. А во-вторых, что западноевропейская цивилизация еще не вполне сложилась в романский период и не могла претендовать на роль мегацивилизации, в отличие от двух восточных: монголоидно-китайской и исламо-арабской. Уступая им в культурном и технологическом отношении. Руси же во многом выпала роль страны, через которую проходил культурный транзит.
В XII – начале XIII вв. расхождение между русской и западной традицией шлемоделания нарастает. Хотя русские тоже стремятся полностью прикрыть как голову, так и лицо, но таких «громоздких и неуклюжих» шлемов, как на Западе, у нас не создают. Самый известный русский шлем этого периода, предположительно принадлежавший князю Ярославу Всеволодовичу, «обит серебряным листом и украшен позолоченными серебряными чеканными накладками: на вершине – звездчатой пластиной с изображением Спаса, Св. Георгия, Василия, Федора и на челе – образом архангела Михаила с черневой посвятительной надписью. По краю проходит орнаментная кайма с изображением грифонов, птиц и барсов, разделенных лилиями и листьями. Чеканная отделка стилистически близка к Владимиро-Суздальской белокаменной резьбе, что, может быть, указывает место изготовления памятника… Кроме того, кругом по ободу в пяти местах имеются сломанные ушки для бармицы. К тулье прикреплен клювовидный посеребренный наносник с позолоченным надбровьем, образующим вырезы для глаз». Характерной особенностью подобных шлемов данного периода является их крутобокость. Известно еще как мимум два образца, причем все они «настолько своеобразны, что исключают мысль о каком-либо заимствовании. От своих западных современников они, между прочим, отличались круговой бармицей: западные образцы или упирались боковыми, длинными стенками в плечи и стесняли движение головы, или не имели бармицы, заменявшейся кольчужным капюшоном». Судя по некоторым изображениям в письменных источниках, такие капюшоны, представлявшие одно целое с кольчугой, были известны в русских княжествах, но шлем западного образца у нас не прижился.
Характерные, украшенные высокими шпилями с яловцами, русские шлемы заслуживают названия национальных, ибо они были заметным украшением русских воинов, как можно судить по десяткам миниатюр Радзивилловской летописи. Служили их отличительной особенностью. «Ратники Данила Галицкого имели во время похода на ятвягов шлемы „яко солнцю восходящю“. По словам немецкой рифмованной хроники, шлемы новгородцев „бросались в глаза“, „блестели как зеркало“».
Кирпичников подчеркивает: «Подводя общий итог эволюции шлемов X—XIII вв., можно сказать следующее. Русские домонгольские шлемы восходят к древним восточным образцам. Уже в ранний период эти шлемы отличались большим своеобразием, и многие их типы не имеют аналогий ни на Востоке, ни на Западе. Очевидно, русские оружейники создали самостоятельные варианты боевого наголовья, восхищавшие современников своими отличными качествами и красотой; это обеспечило русским шлемам распространение за пределами родной земли».
Но вот пришли орды Батыя, и положение резко изменилось: «Монгольское нашествие тяжело отразилось на русском оружейном ремесле. Меднозолоченые шлемы, а также крутобокие шлемы с чеканной религиозной рыцарской эмблематикой не получили дальнейшего развития в позднем средневековье»238.
* * *
Сфероконические простые стрельчатые шлемы с высоким шпилем, однако, еще долго, вплоть до XVII века, остаются в обиходе русского войска в качестве основной модели, лишь претерпевая незначительные изменения типа укорочения наносника. Их боевые качества, апробированные в веках, выдержали проверку татарским нашествием. Показательно, что именно такой шелом заказал уже разгромивший татар и взявший Казань Иван Грозный в 1557 году для своего трехлетнего царственного сыночка Ивана, «на вырост» (ОПМК №2).